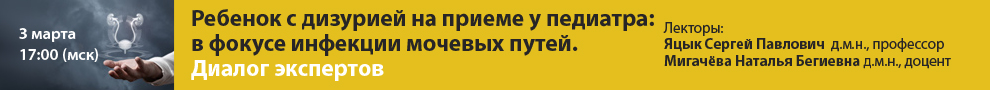Психиатрия Дневник психиатра (психиатрическая газета)





Психиатрия Дневник психиатра (психиатрическая газета)
№03 2015
Интервью с Марком Милланом, шотландским ученым №03 2015
Номера страниц в выпуске:1-6
Интервью с Марком Милланом, шотландским ученым, работающим во Франции. М.Миллан является также секретарем Европейской коллегии нейропсихофармакологии (European College of Neuropsychopharmacology – ECNP), членом Исполкома ECNP.

В начале устного выпуска «Дневника психиатра», проводившегося в Суздале в рамках 12-й Всероссийской школы молодых психиатров (апрель 2015 г.), аудитория попыталась отобрать наиболее распространенные понятия, характеризующие, на наш взгляд, Шотландию и шотландцев (виски, килты, поэзию Роберта Бернса и романы Вальтера Скотта).
П.В.Морозов: Марк, как Вы видели, аудитория примерно ориентируется в Вашей родной стране, но я все-таки хотел бы Вас спросить. Просветите нас, чем Ваша родная Шотландия отличается в целом от Англии?
Марк Миллан: Благодарю вас, друзья, вы очень хорошо информированы о моей стране, о ее поэзии и литературе. Действительно, в качестве платья мы используем килт, а в качестве напитка – виски. Но вы забыли упомянуть национальное шотландское блюдо – это хаггис, и те из вас, кто его не пробовал, поступили разумно. Лучше его не пробовать. (Смех.). Скорее всего, мне бы стоило делать свою презентацию в килте, но нужно подчеркнуть, что килт – это праздничная одежда, которую носят на свадьбе или на охоте. Но я не охочусь, поэтому, чтобы надеть килт, мне пришлось бы поприсутствовать на свадьбе. Так как цвета моего колледжа – желтый и красный, я выглядел бы глупо. Поэтому хорошо, что я не приехал в юбке. Действительно, насчет виски я большой специалист. Это как у вас водка. Кстати, сколько сортов водки в России есть?
П.М.: Много, и они постоянно меняются.
М.М.: У нас сотни сортов виски, и я его коллекционирую у нас дома, чему рада моя жена. Угадайте, сколько бутылок виски у меня дома хранится?.. Действительно, восемь сотен бутылок – коллекционирую профессионально. Дома нет пространства ни для ваз, ни для книг, все занято бутылками, и жена очень рада этому. Ну и, слава Богу, у нас дома хотя бы не живет Лохнесское чудовище. Действительно, я родился в Шотландии, в Эдинбурге.
Но мои родители совершили ужасающий проступок. Они выкрали меня из Эдинбурга в возрасте 6 лет и увезли в Лондон – столицу наших исторических врагов.
Конечно, я ездил на 3 недели каждое лето в Шотландию на каникулы. Но за это время я совершенно растерял шотландский акцент. Поэтому свою юность провел как скиталец между Англией и Шотландией. Я все еще остаюсь шотландцем в душе. У меня шотландские мысли, шотландские убеждения. Я считаю, что между Шотландией и Россией очень много общего. В частности – цвета. Как вы думаете, какие национальные цвета в Шотландии? Прям как ваш Андреевский флаг, это и есть наши национальные цвета. Но красного у нас нет. Смешной факт. После Шотландии я поехал жить и работать в Баварию, их национальные цвета тоже синие и белые.
Основное различие между Англией и Шотландией в том, что в Шотландии намного лучше, чем в Англии. Это очень простой ответ. Люди намного лучше, еда, язык, виски. Английский килт – это что-то с чем-то, даже говорить не хочется. Англичане не умеют играть на волынке. Совсем не носят юбки по сравнению с Робертом Бернсом все их поэты – это просто мусор.
Действительно я родился в Шотландии, в Эдинбурге.
Но мои родители совершили ужасающий проступок. Они выкрали меня из Эдинбурга в возрасте 6 лет и увезли в Лондон в столицу наших исторических врагов.

П.М.: Я вспомнил, что предок Лермонтова, Лермант, тоже был шотландцем.
Я знаю ответ на следующий вопрос, но все равно его задам.
В свое время Вы закончили Кембридж – знаменитый университет. Я хочу спросить, почему Вы поступили в Кембридж, а не в Оксфорд?
М.М.: Потому же, почему Шотландия лучше Англии. Кембридж просто лучше. История следующая. Оксфорд действительно самый старый, самый первый университет в Англии, но он был недостаточно хорош, поэтому часть людей, которые были не согласны с политикой руководства, переселились в Кембридж и решили организовать свой, лучший университет. И это случилось около 800 лет назад.
У Оксфорда есть определенные отличительные характеристики, в частности, там царит традиционный уклад, люди придерживаются старых традиций. Они довольно причудливы. Они очень официозны, очень формальны в своих процедурах.
Кембридж – это три «с» (cool, clever, creative): клевые, или крутые, умные и креативные.
Основная специализация Оксфорда – это политика и история. Мы можем винить 26 британских премьер-министров, они все вышли из стен Оксфорда, за все те неудачи и политические проблемы, которые произошли с Великобританией.
Это действительно вина Оксфорда. К слову, 7 мая в Великобритании будут выборы, и мистер Кэмерон – один из основных кандидатов на пост премьер-министра... Кстати, где он учился, как вы думаете? Он учился в Оксфорде. Его оппонент также учился в Оксфорде. У вас есть отличная альтернатива – поменять Оксфорд на Оксфорд. Все, что нам нужно в нашей политике, – это премьер-министр из Кембриджа, чтобы решить все проблемы.
Действительно, Оксфорд известен своими широкими исследованиями в области политики и истории, это не очень здорово.
С другой стороны, Кембридж больше занимался естественными науками и музыкой. В Кембридже существуют более чем тысячелетние хоровые традиции. Около 30 колледжей, в каждом из которых есть свой хор. Когда я изучал науку в Кембридже, я также посещал хор, пел. Действительно, это была настоящая причина, почему я пошел учиться в Кембридж. Это научные традиции и музыка – пение. И в Кембридже учились Уотсон и Крик, первооткрыватели ДНК, неплохо, не правда ли? Чарльз Дарвин и Исаак Ньютон. Все вы знаете великого физика Хокинга. Стивен Хокинг учился в моем колледже. Но, к сожалению, когда он приезжал к нам с докладом, я его не встретил, так как был нетрезв, был в это время дома. Но потом мне все-таки удалось с ним пересечься.
Другая отличительная особенность Кембриджа – это чувство юмора. Например, комик-группа «Монти Пайтон» родом из Кембриджа. Они начинали там. Это выгодно отличает их от скучного официозного Оксфорда.
Вот такая цифра, которая точно убедит вас в преимуществе Кембриджа. У нас 90 нобелевских лауреатов в Кембридже, и всего лишь 26 – в Оксфорде.

П.М.: Несколько лет назад Вы поменяли страну – переехали работать в Германию, в баварский город Мюнхен, в институт Макса Планка. Ну, естественно, у меня вопрос – почему? Институт Макса Планка – очень известный, но все равно, почему Вы решили поехать в Германию?
М.М.: Моя официальная версия, что в Институте Макса Планка тоже есть хор, в котором хорошо поют. Мне нравится петь. И также мне хотелось расширить свое научное образование. Пройти переподготовку. Неофициальная причина заключается в том, что в то время я был очень неорганизованный, не планировал свою будущую научную карьеру. Не знал, что, собственно, делать после получения степени в Кембридже, и мне друзья посоветовали поехать на один год в Институт Макса Планка. Действительно важно в молодости сохранить открытость, гибкость. Иногда, действительно, молодые люди не планируют свое будущее детально, как хотелось бы. И я не знал, не ожидал, что я окажусь в институте Макса Планка, что я проведу там 10 лет своей жизни. Поэтому нужно быть открытыми и гибкими. Отличное место, превосходное. Я по нему очень скучаю. По Альпам, сосискам, пиву, по людям.
Кембридж – это три «с» (cool, clever, creative): клевые или крутые, умные и креативные. У нас 90 нобелевских лауреатов в Кембридже, и всего лишь 26 – в Оксфорде.
П.М.: Марк, такой очень личный вопрос. Насколько я знаю, Вы женились на немке.
М.М.: Там сидит моя очаровательная супруга, которая наслаждается Россией, погодой и вашим гостеприимным приемом.
П.М.: Тогда следующий вопрос. А почему Вы переехали во Францию?
М.М.: Основная причина – язык, культура, сыр, вино. Я не поехал туда, чтобы петь песни, потому что у них не такая богатая хоровая традиция, к какой я привык. Прошу прощения у мсье Ф.Камю, европейского представителя компании «Сервье», за эту ремарку. На самом деле я поехал туда, потому что мне нравились моя новая работа и научная карьера. Мне очень повезло, что я оказался в Париже. Это отличное место.
Мы разрабатывали молекулу с анксиолитическим эффектом для лечения пациентов с тревожными расстройствами. Заменили какой-то элемент в химической формуле, и получилась эффективная молекула для лечения болевых расстройств. Верите или нет, но эта молекула оказалась в 2000 раз эффективнее в отношении обезболивания по сравнению с морфином.
П.М.: Марк, мы пошутили немножко. Теперь я начинаю переходить к более серьезным вещам. У Вас очень высокий индекс Хирша – 76, у Вас 20 000 цитирований в год, Вы входите в 1% наиболее цитируемых авторов в области нейросайнса в мире. В Вашем послужном списке очень много достижений. Одно из них меня очень впечатлило. Вы исследовали и принимали участие в создании 18 новых препаратов. Я не могу не воспользоваться случаем, чтобы не спросить. Какой из этих 18 препаратов Вам больше запомнился?
М.М.: Не все это моя заслуга.
Самой запоминающейся молекулой, естественно, для меня был первый препарат, который мы разрабатывали. Процесс довольно сложный. Доклинические фазы испытаний включают апробацию на животных моделях. Предварительный прогноз дозировок, эффективности, переносимости. После этого вы передаете свою молекулу другим людям, которые уже занимаются клинической работой. И вы совершенно не можете повлиять на то, что произойдет с этим веществом дальше. Вы не знаете, дойдет ли оно до пациентов. Как правило, вы одновременно разрабатываете несколько молекул, и понятно, что все они точно не дойдут до окончательных фаз клинических испытаний.
Несмотря на то что многие молекулы не доходят до пациентов, все равно информация о них публикуется. Мы получаем много полезных клинических данных, в первую очередь о химической структуре, профилях химического действия, которые помогают разрабатывать нам следующие модели. К сожалению, первая молекула, которую мы разрабатывали (она была предназначена для лечения шизофрении), не прошла первой фазы испытаний по причинам плохой переносимости. Но, например, последующие, одна из них агомелатин – Вальдоксан, довольно успешно сейчас применяются в психиатрической практике.
Еще один пример из нашей практики, который подчеркивает, что так же, как и в своей карьере, в своих планах вы должны держать ухо востро, глаза – открытыми, должны быть гибкими к новой информации. Мы разрабатывали молекулу с анксиолитическим эффектом для лечения пациентов с тревожными расстройствами. Заменили какой-то элемент в химической формуле, и получилась эффективная молекула для лечения болевых расстройств. Верите или нет, но эта молекула оказалась в 2000 раз эффективнее в отношении обезболивания по сравнению с морфином. В компании перепугались, потому что это не обычная ситуация, когда находят настолько высокопотентную молекулу, и решили дальше с ней не связываться, не разрабатывать.
Мы опубликовали данные об этой молекуле, получили отзывы, обратную связь и на 5 лет благополучно забыли об этой истории. Через 5 лет с компанией связывается группа исследователей из Швеции, которые начали применять эту молекулу для очистки дна судового мореходного состава от моллюсков, которые прилипают к дну лодки и портят ее радиолокационные характеристики.
Мы подумали: почему мы не включили эту информацию в патент? Мы даже не додумались до этого! И теперь люди используют нашу молекулу совершенно по не прямому назначению. Думаю, из этого следует, что вы не всегда знаете о том, что вы, собственно, сейчас открыли. Информация об этом может поступить позже от совершенно других людей.
Другой интересный факт об этой молекуле. Она нашла применение в ветеринарной службе, потому что отлично помогает бороться с болью и моторным возбуждением у лошадей. Эта информация нигде раньше не публиковалась, озвучиваю ее публично впервые. Ну, мы находимся в России, поэтому ничего страшного, если мсье Ф.Камю будет против. Мы попросим его выйти из помещения. Но смысл в том, что есть сведения об использовании этой молекулы в качестве допинга на скачках. Человек, который был ответственен за использование этой молекулы в качестве допинга для лошадей, сейчас скрывается в Швейцарии от Интерпола. Настоящий детектив.
Именно эта молекула, напомню, лучше всего. И подчеркиваю, всегда нужно быть открытым к новой информации. Вы не всегда знаете, чем закончится ваша научная работа.
Агомелатин – действительно очень интересное вещество и это единственный антидепрессант, который был зарегистрирован, успешно применяется в практике и фундаментально отличается от типичных антидепрессантов, основным звеном механизма действия которых являются монамины.
П.М.: Еще один личный вопрос. Мой сын, который работает в компании «Сервье», просил обязательно спросить, что Вы думаете об агомелатине.
М.М.: Вы вряд ли получите от меня 100% объективное мнение, потому что я находился в группе исследователей, которые его придумали, разработали и внедрили. Но я постараюсь быть максимально объективным. Это очень интересное вещество, которое вряд ли решит все проблемы во Вселенной и вряд ли решит все проблемы в психиатрии.
Это действительно очень интересное вещество и это единственный антидепрессант, который был зарегистрирован, успешно применяется в практике и который фундаментально отличается от типичных антидепрессантов, основным звеном механизма действия которых являются моноамины.
Эта молекула действует на мелатонин, гормон, который вырабатывается в гипофизе и участвует в регуляции наших циркадных ритмов. У пациентов с депрессией, как правило, нарушен сон и обнаруживается нарушение циркадных ритмов. И другие антидепрессанты никак на это звено патогенеза не действуют в отличие от агомелатина.
То есть это вещество особенно полезно для пациентов, которые не реагируют на обычные, стандартные антидепрессанты и у которых есть проблемы с циркадными нарушениями.
Я не перестаю удивляться своей жизни, своей научной карьере.
В течение 20 лет мы исследовали эту молекулу с прицелом на один механизм действия – мелатонинергический. Совершенно случайно обнаружили, что у него есть второй механизм действия – сератонинергический. Таким образом, совершенно незапланированно это превратилось в антидепрессант с двумя механизмами действия.
Не следует разрабатывать молекулы с прицелом на какой-то один механизм действия, очень узкий и селективный. Потому что депрессия представляет собой сложное многокомпонентное расстройство. И если мы используем вещество, у которого есть несколько механизмов действия, мы вероятнее добьемся успеха. Другим сюрпризом, не столь приятным, оказалась способность агомелатина к незначительной гепатотоксичности, к небольшому повышению печеночных ферментов. Это не драматическое повышение, но оно обнаруживается у некоторых пациентов. По сей день не было ни одного тяжелого случая такой гиперферментемии, нет, поэтому в настоящее время мы рекомендуем тем пациентам, которые начали получать агомелатин в течение 2–3 недель, все-таки регулярно проводить биохимический анализ крови. Это другой пример того, что при разработке лекарств нужно смотреть на обе стороны монеты, как на хорошие свойства препарата, так и на плохие. В случае с гиперферментемией нам удалось с этим справиться, мы все равно вывели это лекарство с успехом на рынок.
Резюмируя, можно сказать, что если мы применяем этот препарат разумно и по показаниям, он действительно может оказаться очень полезным у людей, которые не реагируют на другие антидепрессанты. Кроме того, он, судя по всему, очень эффективен при тревожных расстройствах.
П.М.: Действительно, это невероятное совпадение, но в свое время упомянутый мною сын, Денис, сказал мне: «Очень интересная статья, обрати внимание».
Я взял ее, прочел и немедленно заказал перевод. И вот так получилось, что юбилейный номер «Психиатрии и психофармакотерапии» имени П.Б.Ганнушкина, нашего журнала (десятилетие!) открывается статьей Марка Миллана (Франция) «Препараты с двойным и тройным действием для лечения ядерных и морбидных проявлений большой депрессии. Новая концепция – новые препараты». И в этой связи я хотел бы Вас спросить. Прошло немногим больше 5 лет. Изменились ли и как изменились Ваши взгляды на перспективы препаратов нового поколения? Что сбылось, что нет. И каковы сейчас перспективы развития новых антидепрессантов?
М.М.: Касательно именно этой статьи. Действительно во многих случаях вы не знаете, что последует в течение, например, следующих 5 лет, но конкретно мои прогнозы сбылись. Потому что в течение последних 20 лет основные направления в разработке антидепрессантов были связаны с высокоселективными молекулами, с тем, что необходимо было искать совершенно новые, необычные, ранее не изученные молекулы. А так же с тем, что нужно как-то привязывать разработку лекарств к человеческому геному, который, как вы помните, был окончательно опубликован в 1999 г. Ничего из этого так и не произошло, как я и предсказывал, – не сработало.
Сложившаяся ситуация привела к определенному пессимизму среди исследователей, и многие фармацевтические компании стали закрывать свои направления в разработке антидепрессантов, потому что не видели выхода из ситуации. Но удивительный факт: даже два препарата, о которых я упоминал в своей статье пятилетней давности, на самом деле вышли на рынок. И удивительно то, что оба они являются моноаминовыми препаратами и препаратами с двойным и тройным механизмом действия.
С моей точки зрения и с точки зрения многих моих коллег, депрессию нельзя лечить только медикаментами. Нужно применять биопсихосоциальный подход, который включает психосоциальную поддержку, в том числе профилактику в периоды ремиссий. Причины субсиндромальных расстройств в интермиссиях.
В сложных случаях следует подключать методы стимуляции мозга. И все эти направления параллельно развивались все эти годы вместе с разработкой новых лекарств и препаратов. Лечение депрессии должно включать в себя комплексные мероприятия, которые включают разные направления работы разными специалистами.
Хороший момент, чтобы вернуться к вопросу генетических исследований. За последние 20 с чем-то лет в эту область было вложено огромное количество денег. Миллиарды и миллиарды рублей, долларов, евро. Исследователи обещали найти ген шизофрении, ген депрессии, ген социальной дисфункции. Ничего подобного так и не было обнаружено. Потому что, как известно, психические расстройства имеют сложное полигенное наследование. И единственным примером моногенного наследования являются редкие формы аутизма, при которых мы можем обнаружить точечную мутацию. По крайней мере, по настоящее время результата это не дало. Поэтому очевидно, что нужно как-то направление генетической идеи переосмыслить.
Я всегда говорю, что от гена к белку очень долгий путь. А от белка к заболеванию этот путь еще дольше. Ситуации, в которой один ген производит один протеин, который приводит к развитию одного заболевания, не существует. И мы должны думать о восстановлении, о профилактике. О комплексном воздействии на всю сложную структуру взаимодействия ген–белок–заболевание – вот о чем мы сегодня говорили.
Позитивной оптимистической вещью является то, что ученые сейчас переосмысливают генетику и начинают понимать, что она не является ответом на все вопросы и что нужно качественно изменить подход к ее исследованию.
П.М.: Но вот сейчас здесь, прямо у нас, на стенде «Сервье» есть такая книга, я советую ее получить, называется она «Эпигенетика». И в ней мы находим статью Марка Миллана «Эпигенетические деменции и заболевание Альцгеймера». Вы интересуетесь проблемой эпигенетики как альтернативным подходом? Мне это интересно. В частности, путь изучения шизофрении эпигенетически мне кажется очень перспективным. Что Вы думаете по этому поводу?
М.М.: Это займет долгое время. Но, возможно, нам следует спуститься в бар и выпить водки или пива, потому что об этом мы будем говорить всю ночь. (Смех.)
Все ли знают, что такое эпигенетика? Эпигенетика – это новая и крайне интересная концепция, которая фактически убила классическую генетику. Поэтому она такая интересная и обещающая.
Исследователи после изучения в течение 20 лет получали большие деньги за публикацию статей, которые не приносили никакого результата. Теперь их всех можно заставить замолчать, используя в качестве аргумента достижения эпигенетики.
Основная идея эпигенетиков в классической генетике заключается в том, что мы имеем последовательность ДНК, которая передается от родителей к плоду и от одной клетки двум новым клеткам после деления, и, если в этой цепочке ДНК происходит какая-либо мутация, мы имеем в итоге заболевание. Это не имеет ничего общего с действительностью. Куда важнее эпигенетические факторы, в частности РНК-мессенджер, который регулирует степень экспрессии того или иного гена и в итоге определяет, что за протеин у нас получится на выходе.
И это как раз представляет куда более интересную область для исследований.
Получается, что при шизофрении, аутизме и многих больших психических расстройствах последовательность ДНК совершенно идентична у здоровых людей и у больных. Но эпигенетические факторы как раз регулируют то, как ДНК работает, какие протеины в итоге получаются. И сегодня мы услышали о факторах риска. Перинатальные риски, психическая травма, вирусные инфекции при беременности, которые могут изменять, например дисфункцию в регуляции, экспрессию ДНК. Собственно, с этим и нужно сейчас работать. Это наиболее перспективное направление исследования.
П.М.: Я знаю, что Вы являетесь секретарем ECNP и отвечаете, в частности, за обучение молодых. Я знаю, что у Вас есть несколько слайдов на эту тему. Мне это особенно интересно, потому что когда-то в 1989 г. я был избран в состав первого исполкома ECNP. Тогда в ECNP было всего 200 человек. Сейчас это огромная организация, и мне интересно было бы как послу этой организации в России услышать немного об активности ECNP в обучении молодых психиатров.
И я хотел бы узнать, что делается для молодых.
M.M.: Я каждый год провожу семинар в Ницце, в солнечном городе, в котором погода намного лучше, чем в Суздале. Если Вам хочется поздней весной отправиться на солнечный Лазурный Берег и поизучать нейропсихофармакологию, вместо того, чтобы сидеть в лаборатории или в больнице и замерзать, – слушайте внимательно! Бесплатно! Потому что организация покрывает все расходы, включая транспортировку и пребывание.
Что из себя представляет Европейская коллегия нейропсихофармакологии? Это независимая, неправительственная научная ассоциация, целью которой является улучшение качества образования, информированности по проблеме нейронаук, по работе мозга, о том, как способствовать психическому здоровью и разрабатывать новые методы лечения психических расстройств.
Каждый год мы проводим более 20 научных встреч, на которых обсуждаются все аспекты работы мозга, нарушение его работы. Обычно на самые крупные мероприятия, а именно на конгресс ECNP, съезжаются более 5 тыс. (в прошлый раз было 7 тыс.) исследователей-психиатров со всех 48 европейских стран. Следующий конгресс будет в Амстердаме в конце августа.
Основной печатный орган – журнал «European Neuropsychopharmacology». В нем мы иногда делаем прогнозы. Какие-то из них сбываются, какие-то – нет. Последний выпуск (майский) этого журнала вышел сегодня утром. В нем первая заглавная статья – обзорная, в которой освещаются события нейропсихофармакологии за последние
60 лет и делаются определенные прогнозы на следующие 20 лет.
И важно отметить, что статья в открытом доступе.
В следующем году мы собираемся провести образовательный cеминар для более чем 300 молодых ученых со всей Европы.
ECNP ежегодно проводит три школы, одну из них по общей психофармакологии. К сожалению, в Оксфорде, а не в Кембридже. Но тем не менее проводим довольно успешно и уже давно.
Одну школу – по детской подростковой психиатрии, другую школу – по психиатрии позднего возраста, обе – в Венеции.
Следующая информация будет интересна всем присутствующим в этом зале. Как уже упоминалось, мы ежегодно проводим трехдневные интерактивные семинары по нейропсихофармакологии в Ницце, в которых участвуют примерно 100 молодых ученых и психиатров из Европы. А также сейчас запускается трехдневный интерактивный семинар по методологии клинических исследований для 25 молодых психиатров. Первый семинар пройдет в ближайшем будущем. Информация на web-сайте. Участники этих мероприятий отправляют резюме своих собственных работ, своих исследований. И те из них, которые отбираются оргкомитетом, потом могут сделать постерный доклад и обсудить свою работу, задать свои вопросы старшим коллегам. Как правило, в этом семинаре участвуют 10 ведущих исследователей в области нейронауки из Европы.
К сожалению, не так много участников из стран Восточной Европы. Призываю вас, пожалуйста, подавайте заявки, старайтесь участвовать. Подчеркиваю, что вы всегда получите обратную связь. Будете взаимодействовать с коллегами из клинической психиатрии, из фундаментальной науки, лаборатории, больницы. И действительно расширите свой научный и клинический кругозор. Например, 2 недели назад в Ницце лекцию для нас читал Том Инсел, руководитель Национального института психического здоровья США, ведущий исследователь. Он хочет приехать и в следующем году, но я ему объяснил, что уже не получится, потому что можно приехать только один раз. И это касается не только молодых ученых, но и докладчиков.
На следующем семинаре в Ницце будет выступать лауреат Нобелевской премии в области медицины 2013 г. Томас Зюдхоф. Пожалуйста, подавайте заявки и не забывайте про новое мероприятие – семинар по методологии клинических исследований для 25 молодых психиатров.
Следующий конгресс ECNP пройдет в конце августа в Амстердаме, как уже было сказано, крупнейшее мероприятие в области психофармакологии, к сожалению, срок подачи абстрактов уже прошел, поэтому вы можете подавать свои абстракты только на следующий конгресс в 2016 г.
И если ваш абстракт будет принят, вы получите 500 евро на дорогу, чтобы покрыть свои транспортные расходы, и бесплатную регистрацию на конгресс. Вы, наверное, поняли, что мы действительно стараемся поддерживать молодых ученых, а молодыми учеными признаются все психиатры моложе 40 лет, которые в том числе присутствуют в этом зале, и мы стараемся распространить сферу нашего влияния за пределы Германии, Франции и Великобритании. Пытаемся вовлекать новые европейские страны, новые территории.
П.М.: На этом я заканчиваю монополизацию вопросов и предлагаю залу, который накопил силы, задавать вопросы нашему гостю.
Алексей Павличенко: Серьезный вопрос о Вашем отношении к Bluebrain Project. В 2005 г. запустили этот очень интригующий проект, цель которого – создать, в некотором смысле имитировать, наше сознание. Многие ученые и особенно клиницисты считают, что это просто трата времени и денег.
М.М.: К сожалению, я не могу сказать объективно, что я думаю по поводу этого проекта, потому что у меня нет информации, я не слежу за его развитием. Но я предполагаю, что, как и в случае ферментных реакций, выход из какого-то процесса может быть неожиданным, волнообразным, нарастающим мгновенно. И с моей точки зрения, мультинациональные проекты крайне высокобюджетны и более применимы к области фундаментальной физики, чем к области нейронаук. Представляется, что отдельные контрастные по своим целям и методам производства проекты, проводимые разными исследовательскими группами, возможно, принесут нам больше пользы, чем такие амбициозные и очень трудо- и энергозатратные проекты, как Bluebrain Project.
Ну, как и в случае с фундаментальной физикой, приведу другой пример. Это запуск ракеты в космос, отправка человека на Луну. Тут действительно требуются совместные усилия огромного количества людей и стран. В случае с исследованием мозга, в случае с нейронаукой существует огромное количество точек зрения, и каждая из них заслуживает внимания. Поэтому более правильным представляется демократичное разделение средств, финансовых в первую очередь, между исследовательскими коллективами. В разных странах, в разных регионах, с разными концепциями, разными подходами, подчас полярными. Нужно делиться. Особенно важно это для России и для других развивающихся стран.
Т.А.Куприянова: Ваши любимая музыка и композитор?
М.М.: Не ожидал такого вопроса. Музыка Ренессанса, Бэла Барток.
Я играл на пианино, не очень успешно, но тем не менее, по 14 часов в день. Когда не было ничего другого, я хорошо играл, но потом как-то талант исчез. (Смех.)
Струнные квартеты. Первые 50 лет XX в. для меня наиболее интересны в плане инструментальной музыки. Я ничего не знаю про оперу, я несколько раз пел оперу, но никогда особенно не был успешен. Очень нравится диссонансная музыка. Но я не могу ее играть в присутствии супруги. Жесткие джазовые композиторы, которые видимо, не очень известны – их имена ничего вам не скажут.

Ольга Карпенко: Во время Вашей лекции я заметила, что Вы испытываете сильную любовь к коралловым рифам. И я почувствовала Ваше любопытство к тому, что происходит в мозге пациента с шизофренией. Почему Вы все-таки выбрали мозг больных шизофренией?
М.М.: Когда вы идете работать в психиатрию, у вас нет особенного выбора, что изучать. Вы не можете придумать новый цвет радуги – у нас есть только семь цветов, точно так же есть только семь основных психических расстройств, которые поддаются изучению. Шизофрения, на мой взгляд, недостаточно хорошо изучена, и она имеет куда большее социальное значение, чем болезнь Альцгеймера, которая начинается у вас в 80 лет. Шизофрения начинается в 18. Если бы меня при рождении спросили, чем мне лучше заболеть,– шизофренией или болезнью Альцгеймера, я бы, если нет альтернативы, по объективным причинам выбрал болезнь Альцгеймера. В последние годы действительно появилось очень много новых интересных находок в патогенезе шизофрении, патофизиологии мозга, в процессе развития этого заболевания. Мы действительно можем придумать новые методы профилактики и лечения.
Ваш вопрос про связь мозга и коралловых рифов очень важен.
Я провел эту параллель примерно в 2005 г., когда наткнулся на несколько статей биологов и математиков, работающих с так называемыми сложными системами, с экосистемами, и рассчитывали они разные математические модели развития этих экосистем с помощью теории графов. Я должен сказать, что около 35 лет назад я профессионально изучал экологию, поэтому немножко разбираюсь в этом вопросе.
И тогда ко мне пришла мысль, что наш головной мозг действительно, наряду с социальными сетями, наряду с какими-то другими сложными надструктурами, представляет собой объект для математического изучения. Там применимы те же самые математические механизмы – например, то, что есть в работе головного мозга, потом можно применить и в изучении экосистемы кораллового рифа.
Другая причина заключается в том, что я изучал профессионально экологию, и мне действительно всю жизнь была интересна защита окружающей среды. Я старался всю жизнь защитить окружающую среду, но изучал при этом головной мозг. Многие люди из общей популяции не понимают ничего в нейронауке, в работе головного мозга, в его расстройствах. Но при этом многие люди хорошо осведомлены о проблемах в окружающей среде. Поэтому, если мы будем использовать вот эти модели в качестве примера – коралловый риф или джунглевые леса для психообразования, это определенно найдет свой отклик и поможет нам лучше объяснить нашу позицию как исследователей-психиатров.

Тимур Сюняков: Хотелось бы спросить, что Вы думаете о моде на исследования. Например,
5–10 лет назад была мода на изучение нейрональной пластичности, сейчас – на изучение нейрогенеза. Складывается впечатление, что все занимаются одной темой, которая находится на гребне волны. Хотелось бы узнать, какова роль таких вот волн интересов.
М.М.: Поставленная проблема действительно имеет место. Это нормальная вещь в науке, когда появляется какая-то интересная публикация, привлекает общий интерес. Потом кто-то пытается воспроизвести находки, ничего не получается, и эта тема постепенно затихает, исчезает из общественного сознания, внимания. А иногда бывает так, что люди воспроизводят находки оригинальной публикации, лишь подогревают интерес. И какая-то тема становится более модной, чем стоило бы. Но я верю в то, что в науке, в прикладной философии науки существует феномен исчезновения путем ассимиляции и облитерации путем ассимиляции. Когда какая-то отрасль, или новая сфера, или новое направление исследований не исчезают, они просто вливаются в общую канву. Как и в случае с нейропластичностью. Нейропластичность никуда не исчезла. Ее по-прежнему изучают. Просто теперь это происходит в рамках каких-то других направлений. Мы используем уже полученные ранее данные.
Проблема нейропластичности у многих людей навязла в зубах, потому что это слишком общее понятие. Все в мозге является нейропластичным. Что касается нейрогенеза, это была очередная волна направления, в частности, в исследовании депрессии. Потому что раньше предполагалось, что новые клетки в головном мозге не образуются. Теперь-то мы знаем, что они образуются, по меньшей степени в гиппокампе и прифронтальной коре. И предполагается, что при депрессии нарушаются нейрогенез, развитие новых клеток в этих областях мозга, и на это можно как-то воздействовать. Это была очередная волна популярности нового направления в науке. И за счет популярности каждое такое направление получает финансирование. Когда популярность стихает, заканчиваются и деньги. Это волнообразный процесс, цикличный. Но новые концепции не исчезают. Вы держите их у себя где-то далеко, но вы о них помните. И когда возникает какая-то необходимость – они вновь всплывают.
Яков Кочетков: Некоторое время назад многие фирмы исследовали препараты, которые был направлены на гипоталамус и гипофиз, в частности, на их рецепторы. Антитревожные, антидепрессивные препараты… Но затем эти исследования стали почему-то затухать и исчезать…
М.М.: Это направление исследований заглохло, потому что подход был выбран слишком селективный. Просто антагонисты к кортикорелину – очевидно, этого было недостаточно для лечения депрессий. Потому что мы знаем, что множество систем затрагивается: моноаминовая, мелатониновая, – и при такой цели, исследуя только стрессовую ось, вряд ли можно было добиться каких-то значимых результатов. Поэтому, судя по всему, это исчезло.
Действительно, эти молекулы казались малоэффективными в лечении депрессивных и тревожных состояний per se, но сейчас, насколько мне известно, они изучаются в контексте других связанных со стрессом расстройств.
В частности, в профилактике рецидивов кокаиновой зависимости. Не менее интересным мне представляется их использование в качестве средств профилактики шизофрении. Ранней профилактики, потому что мы можем у детей, у подростков использовать эти вещества, редуцировать расстройства, связанные со стрессом.
Эпигенетика – это новая и крайне интересная концепция, которая фактически убила классическую генетику.
М.С.Шейфер: Вы в своей лекции рассказывали об особенностях поведения крыс, которым давали вещество, повышающее идентификацию, таким образом, делая их похожими на больных шизофренией, давая им возможность переносить на себя этот образ. Что это за вещество? И еще, у меня подозрение, нет ли там нескольких капель шотландского виски? (Смех.)
М.М.: Это фенциклидин, который широко используется на черном рынке. В частности, во Франции можно купить в день 10 тонн фенциклидина, если вы найдете наркодилера на улице. Но вам придется потратить 6 месяцев работы с регулирующими органами, только чтобы добыть 10 мг этого вещества для исследования в своей лаборатории.
Это лекарство является антагонистом NDMA-рецепторов, участвуя в глутаматергической передаче. И если мы даем это лекарство здоровому человеку, это провоцирует у него развитие психотических симптомов, которые напоминают один в один симптомы первого ранга.
Если мы впрыскиваем фенциклидин крысе, мы наблюдаем у нее целый спектр шизофренических симптомов, начиная с социальной отгороженности, когнитивного дефицита, причудливого моторного поведения. Именно поэтому предполагается, что это вещество хорошо в моделях шизофрении.
Что мы делали в этой модели: мы брали крысят возрастом в 1 неделю и впрыскивали им это вещество, что приводило к нарушению развития мозга, нарушению формирования надлежащих глутаматергических путей. И вполне это по своим результатам напоминало то, что мы наблюдаем при шизофрении.
Юрий Кузин: Насколько широко распространены модели психических расстройств на животных в современной науке? Существуют ли какие-либо линии животных с изначально пониженным уровнем серотонина и т.д.? Специальная чистая линия? Насколько это перспективно – создание таких моделей животных, и какие слабые места и уязвимости, частые ошибки есть у таких исследований?
М.М.: Действительно, существуют такие чистые линии грызунов. Например, линия грызунов с поломкой гена дизбендина. Постоянно разрабатываются новые штаммы таких мышек и крыс, которые можно применять в исследовании шизофрении и депрессии. Они помогают создавать более жизненные, более похожие на клинику животные модели психических расстройств.
Владимир Строевский: Философский вопрос. В начале 1950-х годов было остановлено такое явление, как психохирургия, поскольку оно было признано негуманным. Затем, как известно, началась психофармакология с известными открытиями, которая повлияла в дальнейшем на развитие психиатрии. Как Вы считаете, как бы выглядела сегодняшняя психиатрия, если бы этого изменения не произошло?
М.М.: Спасибо за Ваш вопрос. Действительно, он скорее философский. Я не могу дать Вам окончательного ответа. Скорее всего, Вы говорите о лоботомии. В частности, профессор упоминает Уолтера Фримана, американца португальского происхождения, который поставил этот метод лечения на поток. В связи с чем в какой-то момент в США лоботомией лечились практически все тяжелые психические расстройства. Это приводило только к тому, что люди становились неспособными к какому-то осмысленному поведению. Полностью аспонтанными. И также, как в случае с трепанацией черепа 2 тыс. лет назад, не исключено, что этот метод вымер бы сам по себе, даже без вмешательства, без разработки методов психофармакологии, потому что он был неэффективен. И действительно, внедрение в 1950-х годах галоперидола, хлорпромазина и других средств совершило определенный прорыв в лечении психиатрических расстройств. Но с тех пор практически ничего не изменилось. Был совершен прорыв, и дальше мы пока не сдвинулись. И я действительно считаю и во всех своих выступлениях призываю людей смотреть в будущее, придумывать новые методы лечения и профилактики тяжелых психических расстройств.
То, что происходит сейчас и происходило все эти 60 лет, можно назвать постепенно прогрессирующей эволюцией. Не революцией, а именно постепенным развитием нашего понимания расстройств головного мозга.
Переводил беседу Павел Алфимов.