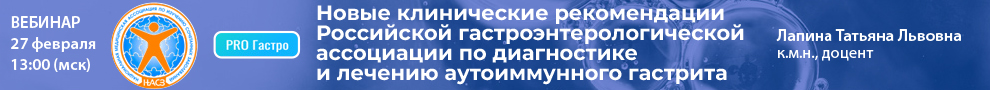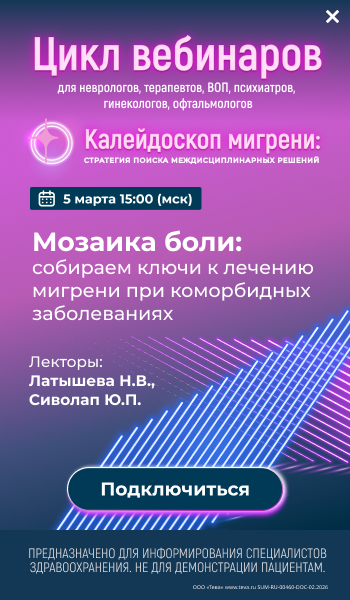Клинический разбор в общей медицине №3 2024
1 Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia;
2 National Medical Research Center of Radiology, Obninsk, Russia
omekan@mail.ru
Abstract
Over the past decades, there have been great advances in the understanding of serous borderline tumors of the ovary. Although most serous borderline tumors have a favorable outcome, recurrence and progression to carcinoma are possible. Serous borderline tumor of the ovaries is the most common among all borderline tumors. They are an intermediate group between benign and malignant formations. Most often, serous borderline tumors have a favorable outcome, but there are also cases of relapse and progression to malignancy. In this review, we will try to clarify what a serous borderline tumor is.
Keywords: serous borderline ovarian tumor, classification, diagnosis, survival.
For citation: Kiseleva M.V., Orazov M.R., Pernay V.M. Methods to preserve fertility in patients with serous borderline ovarian tumors. Clinical analysis in general medicine. 2024; 5 (3): 82–87. (In Russ.). DOI: 10.47407/kr2023.5.3.00376
Серозная пограничная опухоль яичников (СПОЯ) – наиболее распространенный тип пограничных опухолей, которые встречаются в 55% случаев у женщин репродуктивного возраста. Новообразование, как правило, сочетается с серозной цистаденомой или аденофибромой, обычно ограничивается яичником и имеет медленное течение, тем не менее до 6,8% опухолей могут прогрессировать до серозной карциномы (СК) низкой степени злокачественности. Определенные особенности этого типа опухоли (билатеральное поражение поверхности, разрыв капсулы, наличие микропапиллярного/крибриформного рисунка, микроинвазия, поздняя стадия при манифестации, тип имплантата) обычно сопряжены с более агрессивным заболеванием; однако опухоли без этих особенностей могут быть связаны с рецидивами или СК низкой степени злокачественности. В обзоре представлено краткое изложение прогностических показателей для этого типа опухоли, включая недостаточно распознанные и недавно описанные особенности [1, 2].
Новая классификация опухолей яичников, представленная ВОЗ в 2014 г., включает некоторые важные изменения. Термин «пограничная опухоль яичников» (ПОЯ) был заменен на «атипичная пролиферирующая опухоль», а термин «опухоль с низким потенциалом злокачественности» больше не рекомендуется использовать. Понятие микроинвазии также было пересмотрено, а в классификации СПОЯ выделены две нозологические группы. Эти изменения помогают уточнить диагностику и классификацию опухолей яичников, что имеет большое значение в плане лечения и прогноза [3].
Серозные пограничные опухоли демонстрируют аналогичные генетические и молекулярные изменения – неинвазивная low grade СК с мутациями в онкогенах KRAS и BRAF и низким количеством копий ДНК. Это подтверждает гипотезу, что неинвазивная low grade СК развивается из СПОЯ с мутацией KRAS и BRAF с активацией пути передачи сигнала митоген-активируемой протеинкиназы. При СК высокой степени злокачественности наблюдается мутация р53 с высоким количеством копий ДНК. Считается, что СК высокозлокачественная и развивается de novo из поверхностного эпителия яичников [4–6].
Всем пациенткам с подозрением на СПОЯ необходимо выполнить УЗИ органов малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства и паховых лимфатических узлов. В диагностике новообразований яичников используют два основных подхода. Первый основан на стратификации риска, оценивает визуальные характеристики опухоли, основываясь на УЗИ. Второй использует модель прогнозирования риска, которая основана на 5 правилах IOTA (The International Ovarian Tumor Analysis, 2014). Первый подход, стратификация риска, включает разделение обнаруженных опухолей на три категории: практически наверняка доброкачественные, практически наверняка злокачественные и неопределенные. Если результаты первичного УЗИ не позволяют точно определить, является ли образование доброкачественным или злокачественным, его признают неопределенным. В таких случаях рекомендуется применить последующие методы для оценки опухоли. В первую очередь осуществляют оценку на основе модели прогнозирования риска и применяют разработанные группой IOTA (The International Ovarian Tumor Analysis, 2013) 5 правил. Группа IOTA выделила 5 УЗ-признаков злокачественности новообразования (M-признаки) и 5 УЗ-признаков доброкачественности (B-признаки). Согласно методике IOTA, образование считают злокачественным, если присутствует хотя бы один М-признак и отсутствует В-признак. Если есть хотя бы один В-признак и отсутствует М-признак, образование расценивают как доброкачественное. При отсутствии М- и В-признаков либо при их наличии образование рассматривают как неопределенное [5, 7–9].
СПОЯ не имеет каких-либо характерных клинических проявлений, лабораторных и инструментальных критериев. Тем не менее у пациенток может возникнуть ряд симптомов, таких как нарушения менструального цикла, аномальное маточное кровотечение, тупые, ноющие боли в нижних отделах живота, увеличение живота, жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, которые чаще всего связаны с размерами опухоли. Уровень онкомаркеров, таких как СА-125, в крови не всегда свидетельствует о наличии опухоли яичников. При ПОЯ уровень онкомаркера СА-125 может быть повышен, но не всегда является определяющим фактором для диагностики. Кроме того, повышение уровня других онкомаркеров, таких как HE4 и СА 19-9, может быть характерно для муцинозных ПОЯ. В исследовании K. Ochiai с участием 1069 женщин подчеркнуто, что уровень опухолевых маркеров не всегда коррелирует с наличием ПОЯ.
В этом исследовании только у 25% пациенток онкомаркер СА-125 превышал 100 Ед/мл, а у 49% были нормальные значения. Поэтому гистологическое исследование остается ключевым для постановки окончательного диагноза [2, 10–13].
Основной и самый эффективный метод лечения СПОЯ – хирургический. Выбор объема оперативного вмешательства зависит от возраста пациентки, распространенности опухолевого процесса, в каждом случае может быть выполнена как радикальная, так и органосохраняющая операция [3, 14, 15]. Кроме того, при развитии рецидива практически всегда успешно выполнение повторной операции. Эти данные получены в ряде работ, включая крупное шведское исследование с участием более 200 пациенток с ПОЯ, а также в нескольких метаанализах клинических исследований [16–20]. Чаще всего (37%) рецидивы ПОЯ развиваются в первые 2 года после органосохраняющего оперативного вмешательства, только примерно в 10% случаев – спустя 10 лет и более после первоначального хирургического лечения [21]. Сегодня радикальное хирургическое лечение – экстирпация матки с придатками – рекомендовано только пациенткам старше 50 лет при наличии распространенного опухолевого процесса [18]. В случае ПОЯ органосохраняющее лечение предполагает сохранение как минимум контрлатерального яичника, т.е. операция в объеме цистэктомии (ЦЭ), односторонней аднексэктомии (АЭ) или АЭ с контрлатеральной ЦЭ.
Достаточно сложная проблема – определить нужный объем лечения у пациенток с инвазивными экстраовариальными имплантами при необходимости сохранения репродуктивной функции, так как риск рецидива при органосохраняющем лечении крайне высок (более 80%) [18].
В то же время долгосрочная выживаемость пациенток не уменьшается, поэтому органосохраняющее лечение можно рассматривать и у женщин с инвазивными имплантами при необходимости сохранения репродуктивной функции [2]. Частота выявления ПОЯ на III стадии заболевания – всего 15%. В основном опухоли диагностируют на I–II стадии – 83% от общего числа пациенток с ПОЯ.
С целью максимального сохранения репродуктивной функции при ПОЯ используют ультраконсервативные вмешательства в объеме ЦЭ с одной стороны [22–24].
По данным авторов, частота рецидивов после ЦЭ значительно возрастает [25, 26]. Более того, по данным некоторых авторов, ЦЭ в отличие от АЭ может даже негативно влиять на безрецидивную выживаемость [24].
По данным C.C. Poncelet и соавт., частота рецидивов после АЭ у пациенток с ПОЯ составляет 11%, после ЦЭ – 30% [26]. Пристального внимания заслуживают данные, полученные в работе. Частота наступления беременности после АЭ и ЦЭ составила соответственно 45,9 и 41,8% (без статистически значимых различий), в то время как 5-летняя безрецидивная выживаемость – 94,7 и 49,1% соответственно.
Сравнению исходов АЭ и ЦЭ посвящены два метаанализа, в обоих показаны сопоставимые репродуктивные исходы при значительно более высоком риске развития рецидива после ультраконсервативного вмешательства [27].
Значительные сложности в сохранении репродуктивной функции возникают при необходимости двусторонних вмешательств на яичниках. Доказано, что в этом случае двустороннее ультраконсервативное вмешательство в объеме ЦЭ способствует улучшению репродуктивных исходов по сравнению с таковыми после АЭ и контрлатеральной ЦЭ [28].
Некоторые авторы считают, что проведение ультраконсервативных вмешательств требует тщательного отбора и выделения подгруппы пациенток, у которых польза от такого вмешательства превышает возможный риск [29]. Например, показано, что риск рецидива минимален при выполнении ЦЭ на I стадии заболевания [28]. В этом случае сокращение объема операции до ЦЭ также не влияет на долгосрочный прогноз. Другой возможный фактор, требующий рассмотрения возможности ультраконсервативного вмешательства, – наличие у женщины молодого возраста с нормальным овариальным резервом и высокой вероятностью наступления беременности желания реализовать репродуктивную функцию в ближайшее время. S. Palomba и соавт. считают, что рассмотрение вопроса об ультраконсервативном лечении возможно у пациенток до 35 лет с нормальным овариальным резервом при уровне фолликулостимулирующего гормона не более 15 МЕ/мл и при отсутствии данных о трубно-перитонеальном и мужском факторах бесплодия [29].
Однако органосохраняющая операция далеко не всегда позволяет сохранить репродуктивную функцию. По данным разных авторов, после односторонней АЭ частота развития бесплодия может достигать 50–70% [11, 30, 31]. Выделяют несколько основных факторов нарушения репродуктивной функции после органосохраняющих вмешательств при ПОЯ: 1) снижение овариального резерва, которое может быть критическим даже после одностороннего вмешательства, особенно у женщин позднего репродуктивного возраста; 2) развитие спаечного процесса в брюшной полости после оперативного вмешательства; 3) наличие дополнительных факторов, снижающих овариальный резерв.
Кроме того, с учетом риска рецидива ПОЯ повторное вмешательство еще больше снижает вероятность наступления беременности, хотя есть данные о возможности успешного ее наступления после повторной консервативной операции при рецидивах ПОЯ [11, 32].
В связи с тем, что диагноз СПОЯ устанавливают на основе гистологического исследования у всех пациенток, особенно в репродуктивном возрасте, при наличии образования яичников целесообразно выполнять ЦЭ.
Как известно, средний возраст пациенток с СПОЯ составляет 42 года, примерно 45% от этих пациенток моложе 40 лет, поэтому сохранение фертильности – важный вопрос для многих.
На основании метаанализа данных литературы выживаемость при серозных пограничных опухолях оценивается в 95% для пациенток на стадии I и примерно 65% для женщин на стадиях II‒IV. Поскольку поздние рецидивы действительно случаются, а последующее наблюдение ограничено во многих проанализированных исследованиях, это консервативные оценки риска рецидива, и риск, вероятно, будет выше. Как и в случае с СК, поверхностное и двустороннее поражение яичников, по-видимому, дополнительно стратифицирует риск рецидива и прогрессирования заболевания среди пациенток с низкой стадией заболевания. Однако даже при высокой стадии темп течения серозных пограничных опухолей в основном вялотекущий и затяжной, часто длится годами, могут наблюдаться долгие периоды покоя и спонтанная регрессия [33–35].
Основные методы сохранения фертильности у пациенток с ПОЯ [11, 35]:
1. Органосохраняющее лечение (включая консервативные и ультраконсервативные вмешательства).
2. Криоконсервация (КК) ооцитов.
3. КК овариальной ткани.
Сравнению исходов АЭ и ЦЭ посвящены два метаанализа, в обоих показаны сопоставимые репродуктивные исходы при значительно более высоком риске развития рецидива после ультраконсервативного вмешательства [37].
Значительные сложности сохранения репродуктивной функции возникают при необходимости двусторонних вмешательств на яичниках, в этом случае двустороннее ультраконсервативное вмешательство в объеме ЦЭ способствует улучшению репродуктивных исходов по сравнению с таковыми после АЭ контрлатеральной ЦЭ [28].
Отдельного обсуждения требуют безопасность и эффективность применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в частности ЭКО, после органосохраняющего лечения ПОЯ. Хотя в целом данному вопросу посвящено немало работ, в большинстве из них описаны небольшие серии случаев, что не позволяет получить однозначные ответы на многие вопросы [23, 29, 35, 38, 39].
S. Li и соавт., выполнив анализ всех опубликованных в литературе результатов ЭКО (с применением свежих и замороженных эмбрионов) у пациенток с ПОЯ, показали, что частота наступления беременности достаточно высока (86,2%). Собственный опыт S. Li и соавт. по проведению ЭКО у 17 пациенток с ПОЯ показал эффективность 58,8% – при 29 циклах ЭКО зарегистрировано 11 беременностей у 10 пациенток [37]. По данным небольшого исследования S. Palomba и соавт. (2007), частота наступления беременности составляет 93,3% после ультраконсервативного лечения (двусторонней ЦЭ) и 58,8% после АЭ с контрлатеральной ЦЭ, показатель baby-in-arm – 86,7 и 52,9% соответственно [29].
Резюмируя представленные данные, можно констатировать, что ЭКО с применением свежих или замороженных эмбрионов достаточно эффективно после хирургического лечения СПОЯ (консервативного, органосохраняющего, ультраконсервативного). Вероятность наступления беременности после ЭКО у пациенток, оперированных по поводу ПОЯ, выше в более молодом возрасте и, соответственно, при более высоком овариальном резерве [29, 40]. Есть основания предполагать, что эффективность ЭКО выше после ультраконсервативных вмешательств, однако эти данные нуждаются в уточнении в более крупных исследованиях [29].
Мало изучена безопасность ЭКО после хирургического лечения ПОЯ. Актуальность этой проблемы
обусловлена сведениями об увеличении риска развития ПОЯ после ЭКО [41, 42]. Вопрос о повышении риска рецидива после ЭКО и последующего наступления беременности остается открытым, так как для его решения необходимы крупные исследования с включением больших выборок пациенток. S. Palomba и соавт. показали достаточно высокую частоту развития рецидивов ПОЯ у пациенток, которым проводили ЭКО после ультраконсервативного (66,7%) и консервативного хирургического лечения (58,8%) [29]. Тем не менее во всех случаях удалось провести повторное успешное хирургическое вмешательство.
В анализе случаев S. Li и соавт. зарегистрировали 6 рецидивов СПОЯ у 4 женщин с успешной повторной операцией в разном объеме [37]. В одном случае после ЭКО и беременности описано развитие 3 рецидивов ПОЯ с повышением уровня CA-125, которые потребовали повторных циторедуктивных вмешательств и химиотерапии. При обсуждении вопроса сохранения репродуктивной функции при ПОЯ необходимо иметь в виду возможность увеличения агрессивности ПОЯ во время беременности. Такие данные получены в одном небольшом исследовании R. Fauvet и соавт. с участием 40 пациенток [34]. Хотя, безусловно, эти результаты нуждаются в подтверждении в будущих исследованиях, сегодня общепринятая тактика – это тщательное наблюдение за пациентками с ПОЯ в анамнезе при наступлении беременности с целью своевременной диагностики рецидива. При выявлении рецидива во время беременности в большинстве случаев используют выжидательную тактику с повторным хирургическим вмешательством после родоразрешения [11]. Пока отсутствует общепринятый протокол ведения пациенток, желающих реализовать репродуктивную функцию после хирургического лечения ПОЯ [16, 32]. Обсуждается целесообразность раннего и отсроченного применения ЭКО при бесплодии после оперативного лечения ПОЯ.
Например, в работе S. Palomba и соавт. после операции осуществляли наблюдение в течение года; при отсутствии за этот период наступления самопроизвольной беременности использовали вспомогательные репродуктивные технологии [29]. У пациенток без трубно-перитонеального фактора бесплодия проводили 3 попытки контролируемой овариальной стимуляции с внутриматочной инсеминацией, при отсутствии результата – 3 попытки ЭКО. При наличии трубно-перитонеального фактора бесплодия женщин сразу включали в программу ЭКО.
Другие авторы считают, что предпочтительно ЭКО через 1–2 года после оперативного лечения, чтобы минимизировать риск развития рецидива, а также с учетом достаточно большой вероятности наступления самопроизвольной беременности (особенно у молодых пациенток с сохранным овариальным резервом после ультраконсервативных вмешательств) [11].
Li и соавт. полагают, что при желании пациентки забеременеть целесообразно ЭКО после хирургического лечения в ранние сроки. Следует отметить, что пока качественные исследования в этой области отсутствуют, а рекомендации основаны на мнении экспертов и результатах анализа небольших когорт пациенток. Подчеркивается, что решение должно быть индивидуальным в зависимости от таких факторов, как возраст пациентки, овариальный резерв, коморбидная патология, распространенность опухолевого процесса и риск рецидива [11, 37].
КК ооцитов становится все более распространенным подходом к сохранению фертильности у пациенток репродуктивного возраста с различными онкологическими заболеваниями. Тем не менее при СПОЯ целесообразность данного подхода во всех случаях представляется спорной с учетом крайне высокой частоты наступления самопроизвольной беременности, особенно при ультраконсервативных оперативных вмешательствах [39]. При ПОЯ КК ооцитов может быть рекомендована при распространенном опухолевом процессе и большом планируемом объеме хирургического лечения. Эта тактика также применима у пациенток, не планирующих беременность, при высоком риске критического снижения овариального резерва. Далее возможно ЭКО с использованием замороженных ооцитов [11].
Обсуждая особенности ЭКО при ПОЯ, необходимо отметить, что продолжается дискуссия относительно выбора оптимальной схемы стимуляции овуляции. Так, например, предложено применение ингибитора ароматазы летрозола перед овариальной стимуляцией препаратами гонадотропинов. По мнению других авторов, целесообразным может быть использование так называемых мягких протоколов стимуляции овуляции с назначением небольших доз гонадотропинов, которые в некоторых случаях позволяют добиться эффекта [43]. Еще одно обсуждаемое в литературе направление минимизации риска рецидива заключается в проведении стимуляции овуляции с использованием протокола Random start (без привязки к дню менструального цикла) и использовании дуплексных протоколов [11].
Наиболее перспективная стратегия сохранения фертильности при ПОЯ – КК с последующей реимплантацией овариальной ткани. Продолжаются поиски методов, позволяющих верифицировать микрометастазы в ткани яичника, подвергнутой КК, и снизить риск развития рецидива СПОЯ [39].
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests. The authors declare that there is not conflict of interests.
Информация об авторах
Information about the authors
Киселева Марина Викторовна – д-р мед. наук, зав. отд-нием новых медицинских технологий с группой лечения заболеваний молочной железы ФГБУ «НМИЦ радиологии», проф. каф. акушерства и гинекологии ИПК ФМБА Минздрава России.
E-mail: kismarvic@mail.ru
Marina V. Kiseleva – Dr. Sci. (Med.), Prof., National Medical Research Center of Radiology.
E-mail: kismarvic@mail.ru
Оразов Мекан Рахимбердыевич – д-р мед. наук, проф. каф. акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: omekan@mail.ru;
ORCID: 0000-0002-5342-8129
Mekan R. Orazov – Dr. Sci. (Med.), Prof., Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia.
E-mail: omekan@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5342-8129
Пернай Владлена Мариановна – ординатор каф. акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии Mедицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: vladlenapernai@inbox.ru
Vladlena M. Pernay – Medical Resident, Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia.
E-mail: vladlenapernai@inbox.ru
Статья поступила: 18.04.2024
Рецензия 25.04.2024
Принята 25.04.2024
Received: 18.04.2024
Revised: 25.04.2024
Accepted: 25.04.2024
Клинический разбор в общей медицине №3 2024
Методы сохранения фертильности у больных с серозными пограничными опухолями яичников
Номера страниц в выпуске:82-87
Аннотация
За последние десятилетия достигнуты значительные успехи в понимании патогенеза серозных пограничных опухолей яичников. Несмотря на то что большинство серозных пограничных опухолей имеют благоприятный исход, возникновение рецидивов заболевания конституировано в 15% случаев. Серозная пограничная опухоль яичников самая распространенная среди всех пограничных опухолей яичников, это промежуточная группа между доброкачественными и злокачественными образованиями. В обзоре представлены данные о методах сохранения фертильности у больных с серозными пограничными опухолями.
Ключевые слова: серозная пограничная опухоль яичников, классификация, диагностика, выживаемость.
Для цитирования: Киселева М.В., Оразов М.Р., Пернай В.М. Методы сохранения фертильности у больных с серозными пограничными опухолями яичников. Клинический разбор в общей медицине. 2024; 5 (3): 82–87. DOI: 10.47407/kr2023.5.3.00376
За последние десятилетия достигнуты значительные успехи в понимании патогенеза серозных пограничных опухолей яичников. Несмотря на то что большинство серозных пограничных опухолей имеют благоприятный исход, возникновение рецидивов заболевания конституировано в 15% случаев. Серозная пограничная опухоль яичников самая распространенная среди всех пограничных опухолей яичников, это промежуточная группа между доброкачественными и злокачественными образованиями. В обзоре представлены данные о методах сохранения фертильности у больных с серозными пограничными опухолями.
Ключевые слова: серозная пограничная опухоль яичников, классификация, диагностика, выживаемость.
Для цитирования: Киселева М.В., Оразов М.Р., Пернай В.М. Методы сохранения фертильности у больных с серозными пограничными опухолями яичников. Клинический разбор в общей медицине. 2024; 5 (3): 82–87. DOI: 10.47407/kr2023.5.3.00376
Methods to preserve fertility in patients with serous borderline ovarian tumors
Marina V. Kiseleva2, Mekan R. Orazov1, Vladlena M. Pernay11 Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia;
2 National Medical Research Center of Radiology, Obninsk, Russia
omekan@mail.ru
Abstract
Over the past decades, there have been great advances in the understanding of serous borderline tumors of the ovary. Although most serous borderline tumors have a favorable outcome, recurrence and progression to carcinoma are possible. Serous borderline tumor of the ovaries is the most common among all borderline tumors. They are an intermediate group between benign and malignant formations. Most often, serous borderline tumors have a favorable outcome, but there are also cases of relapse and progression to malignancy. In this review, we will try to clarify what a serous borderline tumor is.
Keywords: serous borderline ovarian tumor, classification, diagnosis, survival.
For citation: Kiseleva M.V., Orazov M.R., Pernay V.M. Methods to preserve fertility in patients with serous borderline ovarian tumors. Clinical analysis in general medicine. 2024; 5 (3): 82–87. (In Russ.). DOI: 10.47407/kr2023.5.3.00376
Серозная пограничная опухоль яичников (СПОЯ) – наиболее распространенный тип пограничных опухолей, которые встречаются в 55% случаев у женщин репродуктивного возраста. Новообразование, как правило, сочетается с серозной цистаденомой или аденофибромой, обычно ограничивается яичником и имеет медленное течение, тем не менее до 6,8% опухолей могут прогрессировать до серозной карциномы (СК) низкой степени злокачественности. Определенные особенности этого типа опухоли (билатеральное поражение поверхности, разрыв капсулы, наличие микропапиллярного/крибриформного рисунка, микроинвазия, поздняя стадия при манифестации, тип имплантата) обычно сопряжены с более агрессивным заболеванием; однако опухоли без этих особенностей могут быть связаны с рецидивами или СК низкой степени злокачественности. В обзоре представлено краткое изложение прогностических показателей для этого типа опухоли, включая недостаточно распознанные и недавно описанные особенности [1, 2].
Новая классификация опухолей яичников, представленная ВОЗ в 2014 г., включает некоторые важные изменения. Термин «пограничная опухоль яичников» (ПОЯ) был заменен на «атипичная пролиферирующая опухоль», а термин «опухоль с низким потенциалом злокачественности» больше не рекомендуется использовать. Понятие микроинвазии также было пересмотрено, а в классификации СПОЯ выделены две нозологические группы. Эти изменения помогают уточнить диагностику и классификацию опухолей яичников, что имеет большое значение в плане лечения и прогноза [3].
Серозные пограничные опухоли демонстрируют аналогичные генетические и молекулярные изменения – неинвазивная low grade СК с мутациями в онкогенах KRAS и BRAF и низким количеством копий ДНК. Это подтверждает гипотезу, что неинвазивная low grade СК развивается из СПОЯ с мутацией KRAS и BRAF с активацией пути передачи сигнала митоген-активируемой протеинкиназы. При СК высокой степени злокачественности наблюдается мутация р53 с высоким количеством копий ДНК. Считается, что СК высокозлокачественная и развивается de novo из поверхностного эпителия яичников [4–6].
Всем пациенткам с подозрением на СПОЯ необходимо выполнить УЗИ органов малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства и паховых лимфатических узлов. В диагностике новообразований яичников используют два основных подхода. Первый основан на стратификации риска, оценивает визуальные характеристики опухоли, основываясь на УЗИ. Второй использует модель прогнозирования риска, которая основана на 5 правилах IOTA (The International Ovarian Tumor Analysis, 2014). Первый подход, стратификация риска, включает разделение обнаруженных опухолей на три категории: практически наверняка доброкачественные, практически наверняка злокачественные и неопределенные. Если результаты первичного УЗИ не позволяют точно определить, является ли образование доброкачественным или злокачественным, его признают неопределенным. В таких случаях рекомендуется применить последующие методы для оценки опухоли. В первую очередь осуществляют оценку на основе модели прогнозирования риска и применяют разработанные группой IOTA (The International Ovarian Tumor Analysis, 2013) 5 правил. Группа IOTA выделила 5 УЗ-признаков злокачественности новообразования (M-признаки) и 5 УЗ-признаков доброкачественности (B-признаки). Согласно методике IOTA, образование считают злокачественным, если присутствует хотя бы один М-признак и отсутствует В-признак. Если есть хотя бы один В-признак и отсутствует М-признак, образование расценивают как доброкачественное. При отсутствии М- и В-признаков либо при их наличии образование рассматривают как неопределенное [5, 7–9].
СПОЯ не имеет каких-либо характерных клинических проявлений, лабораторных и инструментальных критериев. Тем не менее у пациенток может возникнуть ряд симптомов, таких как нарушения менструального цикла, аномальное маточное кровотечение, тупые, ноющие боли в нижних отделах живота, увеличение живота, жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, которые чаще всего связаны с размерами опухоли. Уровень онкомаркеров, таких как СА-125, в крови не всегда свидетельствует о наличии опухоли яичников. При ПОЯ уровень онкомаркера СА-125 может быть повышен, но не всегда является определяющим фактором для диагностики. Кроме того, повышение уровня других онкомаркеров, таких как HE4 и СА 19-9, может быть характерно для муцинозных ПОЯ. В исследовании K. Ochiai с участием 1069 женщин подчеркнуто, что уровень опухолевых маркеров не всегда коррелирует с наличием ПОЯ.
В этом исследовании только у 25% пациенток онкомаркер СА-125 превышал 100 Ед/мл, а у 49% были нормальные значения. Поэтому гистологическое исследование остается ключевым для постановки окончательного диагноза [2, 10–13].
Основной и самый эффективный метод лечения СПОЯ – хирургический. Выбор объема оперативного вмешательства зависит от возраста пациентки, распространенности опухолевого процесса, в каждом случае может быть выполнена как радикальная, так и органосохраняющая операция [3, 14, 15]. Кроме того, при развитии рецидива практически всегда успешно выполнение повторной операции. Эти данные получены в ряде работ, включая крупное шведское исследование с участием более 200 пациенток с ПОЯ, а также в нескольких метаанализах клинических исследований [16–20]. Чаще всего (37%) рецидивы ПОЯ развиваются в первые 2 года после органосохраняющего оперативного вмешательства, только примерно в 10% случаев – спустя 10 лет и более после первоначального хирургического лечения [21]. Сегодня радикальное хирургическое лечение – экстирпация матки с придатками – рекомендовано только пациенткам старше 50 лет при наличии распространенного опухолевого процесса [18]. В случае ПОЯ органосохраняющее лечение предполагает сохранение как минимум контрлатерального яичника, т.е. операция в объеме цистэктомии (ЦЭ), односторонней аднексэктомии (АЭ) или АЭ с контрлатеральной ЦЭ.
Достаточно сложная проблема – определить нужный объем лечения у пациенток с инвазивными экстраовариальными имплантами при необходимости сохранения репродуктивной функции, так как риск рецидива при органосохраняющем лечении крайне высок (более 80%) [18].
В то же время долгосрочная выживаемость пациенток не уменьшается, поэтому органосохраняющее лечение можно рассматривать и у женщин с инвазивными имплантами при необходимости сохранения репродуктивной функции [2]. Частота выявления ПОЯ на III стадии заболевания – всего 15%. В основном опухоли диагностируют на I–II стадии – 83% от общего числа пациенток с ПОЯ.
С целью максимального сохранения репродуктивной функции при ПОЯ используют ультраконсервативные вмешательства в объеме ЦЭ с одной стороны [22–24].
По данным авторов, частота рецидивов после ЦЭ значительно возрастает [25, 26]. Более того, по данным некоторых авторов, ЦЭ в отличие от АЭ может даже негативно влиять на безрецидивную выживаемость [24].
По данным C.C. Poncelet и соавт., частота рецидивов после АЭ у пациенток с ПОЯ составляет 11%, после ЦЭ – 30% [26]. Пристального внимания заслуживают данные, полученные в работе. Частота наступления беременности после АЭ и ЦЭ составила соответственно 45,9 и 41,8% (без статистически значимых различий), в то время как 5-летняя безрецидивная выживаемость – 94,7 и 49,1% соответственно.
Сравнению исходов АЭ и ЦЭ посвящены два метаанализа, в обоих показаны сопоставимые репродуктивные исходы при значительно более высоком риске развития рецидива после ультраконсервативного вмешательства [27].
Значительные сложности в сохранении репродуктивной функции возникают при необходимости двусторонних вмешательств на яичниках. Доказано, что в этом случае двустороннее ультраконсервативное вмешательство в объеме ЦЭ способствует улучшению репродуктивных исходов по сравнению с таковыми после АЭ и контрлатеральной ЦЭ [28].
Некоторые авторы считают, что проведение ультраконсервативных вмешательств требует тщательного отбора и выделения подгруппы пациенток, у которых польза от такого вмешательства превышает возможный риск [29]. Например, показано, что риск рецидива минимален при выполнении ЦЭ на I стадии заболевания [28]. В этом случае сокращение объема операции до ЦЭ также не влияет на долгосрочный прогноз. Другой возможный фактор, требующий рассмотрения возможности ультраконсервативного вмешательства, – наличие у женщины молодого возраста с нормальным овариальным резервом и высокой вероятностью наступления беременности желания реализовать репродуктивную функцию в ближайшее время. S. Palomba и соавт. считают, что рассмотрение вопроса об ультраконсервативном лечении возможно у пациенток до 35 лет с нормальным овариальным резервом при уровне фолликулостимулирующего гормона не более 15 МЕ/мл и при отсутствии данных о трубно-перитонеальном и мужском факторах бесплодия [29].
Однако органосохраняющая операция далеко не всегда позволяет сохранить репродуктивную функцию. По данным разных авторов, после односторонней АЭ частота развития бесплодия может достигать 50–70% [11, 30, 31]. Выделяют несколько основных факторов нарушения репродуктивной функции после органосохраняющих вмешательств при ПОЯ: 1) снижение овариального резерва, которое может быть критическим даже после одностороннего вмешательства, особенно у женщин позднего репродуктивного возраста; 2) развитие спаечного процесса в брюшной полости после оперативного вмешательства; 3) наличие дополнительных факторов, снижающих овариальный резерв.
Кроме того, с учетом риска рецидива ПОЯ повторное вмешательство еще больше снижает вероятность наступления беременности, хотя есть данные о возможности успешного ее наступления после повторной консервативной операции при рецидивах ПОЯ [11, 32].
В связи с тем, что диагноз СПОЯ устанавливают на основе гистологического исследования у всех пациенток, особенно в репродуктивном возрасте, при наличии образования яичников целесообразно выполнять ЦЭ.
Как известно, средний возраст пациенток с СПОЯ составляет 42 года, примерно 45% от этих пациенток моложе 40 лет, поэтому сохранение фертильности – важный вопрос для многих.
На основании метаанализа данных литературы выживаемость при серозных пограничных опухолях оценивается в 95% для пациенток на стадии I и примерно 65% для женщин на стадиях II‒IV. Поскольку поздние рецидивы действительно случаются, а последующее наблюдение ограничено во многих проанализированных исследованиях, это консервативные оценки риска рецидива, и риск, вероятно, будет выше. Как и в случае с СК, поверхностное и двустороннее поражение яичников, по-видимому, дополнительно стратифицирует риск рецидива и прогрессирования заболевания среди пациенток с низкой стадией заболевания. Однако даже при высокой стадии темп течения серозных пограничных опухолей в основном вялотекущий и затяжной, часто длится годами, могут наблюдаться долгие периоды покоя и спонтанная регрессия [33–35].
Реализация репродуктивной функции
Одним из первостепенных вопросов лечения СПОЯ у пациенток с нереализованной репродуктивной функцией является сохранение генетического материала. Данный вопрос решается мультидисциплинарно онкологами и акушерами-гинекологами, занимающимися вопросами репродукции. Сохранение биоматериала проводят до хирургического лечения. Согласно существующим регламентам МЗ РФ, оценивают овариальный резерв и опасность рецидива опухолевого процесса с учетом предпочтений пациентки [33, 36].Основные методы сохранения фертильности у пациенток с ПОЯ [11, 35]:
1. Органосохраняющее лечение (включая консервативные и ультраконсервативные вмешательства).
2. Криоконсервация (КК) ооцитов.
3. КК овариальной ткани.
Сравнению исходов АЭ и ЦЭ посвящены два метаанализа, в обоих показаны сопоставимые репродуктивные исходы при значительно более высоком риске развития рецидива после ультраконсервативного вмешательства [37].
Значительные сложности сохранения репродуктивной функции возникают при необходимости двусторонних вмешательств на яичниках, в этом случае двустороннее ультраконсервативное вмешательство в объеме ЦЭ способствует улучшению репродуктивных исходов по сравнению с таковыми после АЭ контрлатеральной ЦЭ [28].
Отдельного обсуждения требуют безопасность и эффективность применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в частности ЭКО, после органосохраняющего лечения ПОЯ. Хотя в целом данному вопросу посвящено немало работ, в большинстве из них описаны небольшие серии случаев, что не позволяет получить однозначные ответы на многие вопросы [23, 29, 35, 38, 39].
S. Li и соавт., выполнив анализ всех опубликованных в литературе результатов ЭКО (с применением свежих и замороженных эмбрионов) у пациенток с ПОЯ, показали, что частота наступления беременности достаточно высока (86,2%). Собственный опыт S. Li и соавт. по проведению ЭКО у 17 пациенток с ПОЯ показал эффективность 58,8% – при 29 циклах ЭКО зарегистрировано 11 беременностей у 10 пациенток [37]. По данным небольшого исследования S. Palomba и соавт. (2007), частота наступления беременности составляет 93,3% после ультраконсервативного лечения (двусторонней ЦЭ) и 58,8% после АЭ с контрлатеральной ЦЭ, показатель baby-in-arm – 86,7 и 52,9% соответственно [29].
Резюмируя представленные данные, можно констатировать, что ЭКО с применением свежих или замороженных эмбрионов достаточно эффективно после хирургического лечения СПОЯ (консервативного, органосохраняющего, ультраконсервативного). Вероятность наступления беременности после ЭКО у пациенток, оперированных по поводу ПОЯ, выше в более молодом возрасте и, соответственно, при более высоком овариальном резерве [29, 40]. Есть основания предполагать, что эффективность ЭКО выше после ультраконсервативных вмешательств, однако эти данные нуждаются в уточнении в более крупных исследованиях [29].
Мало изучена безопасность ЭКО после хирургического лечения ПОЯ. Актуальность этой проблемы
обусловлена сведениями об увеличении риска развития ПОЯ после ЭКО [41, 42]. Вопрос о повышении риска рецидива после ЭКО и последующего наступления беременности остается открытым, так как для его решения необходимы крупные исследования с включением больших выборок пациенток. S. Palomba и соавт. показали достаточно высокую частоту развития рецидивов ПОЯ у пациенток, которым проводили ЭКО после ультраконсервативного (66,7%) и консервативного хирургического лечения (58,8%) [29]. Тем не менее во всех случаях удалось провести повторное успешное хирургическое вмешательство.
В анализе случаев S. Li и соавт. зарегистрировали 6 рецидивов СПОЯ у 4 женщин с успешной повторной операцией в разном объеме [37]. В одном случае после ЭКО и беременности описано развитие 3 рецидивов ПОЯ с повышением уровня CA-125, которые потребовали повторных циторедуктивных вмешательств и химиотерапии. При обсуждении вопроса сохранения репродуктивной функции при ПОЯ необходимо иметь в виду возможность увеличения агрессивности ПОЯ во время беременности. Такие данные получены в одном небольшом исследовании R. Fauvet и соавт. с участием 40 пациенток [34]. Хотя, безусловно, эти результаты нуждаются в подтверждении в будущих исследованиях, сегодня общепринятая тактика – это тщательное наблюдение за пациентками с ПОЯ в анамнезе при наступлении беременности с целью своевременной диагностики рецидива. При выявлении рецидива во время беременности в большинстве случаев используют выжидательную тактику с повторным хирургическим вмешательством после родоразрешения [11]. Пока отсутствует общепринятый протокол ведения пациенток, желающих реализовать репродуктивную функцию после хирургического лечения ПОЯ [16, 32]. Обсуждается целесообразность раннего и отсроченного применения ЭКО при бесплодии после оперативного лечения ПОЯ.
Например, в работе S. Palomba и соавт. после операции осуществляли наблюдение в течение года; при отсутствии за этот период наступления самопроизвольной беременности использовали вспомогательные репродуктивные технологии [29]. У пациенток без трубно-перитонеального фактора бесплодия проводили 3 попытки контролируемой овариальной стимуляции с внутриматочной инсеминацией, при отсутствии результата – 3 попытки ЭКО. При наличии трубно-перитонеального фактора бесплодия женщин сразу включали в программу ЭКО.
Другие авторы считают, что предпочтительно ЭКО через 1–2 года после оперативного лечения, чтобы минимизировать риск развития рецидива, а также с учетом достаточно большой вероятности наступления самопроизвольной беременности (особенно у молодых пациенток с сохранным овариальным резервом после ультраконсервативных вмешательств) [11].
Li и соавт. полагают, что при желании пациентки забеременеть целесообразно ЭКО после хирургического лечения в ранние сроки. Следует отметить, что пока качественные исследования в этой области отсутствуют, а рекомендации основаны на мнении экспертов и результатах анализа небольших когорт пациенток. Подчеркивается, что решение должно быть индивидуальным в зависимости от таких факторов, как возраст пациентки, овариальный резерв, коморбидная патология, распространенность опухолевого процесса и риск рецидива [11, 37].
КК ооцитов становится все более распространенным подходом к сохранению фертильности у пациенток репродуктивного возраста с различными онкологическими заболеваниями. Тем не менее при СПОЯ целесообразность данного подхода во всех случаях представляется спорной с учетом крайне высокой частоты наступления самопроизвольной беременности, особенно при ультраконсервативных оперативных вмешательствах [39]. При ПОЯ КК ооцитов может быть рекомендована при распространенном опухолевом процессе и большом планируемом объеме хирургического лечения. Эта тактика также применима у пациенток, не планирующих беременность, при высоком риске критического снижения овариального резерва. Далее возможно ЭКО с использованием замороженных ооцитов [11].
Обсуждая особенности ЭКО при ПОЯ, необходимо отметить, что продолжается дискуссия относительно выбора оптимальной схемы стимуляции овуляции. Так, например, предложено применение ингибитора ароматазы летрозола перед овариальной стимуляцией препаратами гонадотропинов. По мнению других авторов, целесообразным может быть использование так называемых мягких протоколов стимуляции овуляции с назначением небольших доз гонадотропинов, которые в некоторых случаях позволяют добиться эффекта [43]. Еще одно обсуждаемое в литературе направление минимизации риска рецидива заключается в проведении стимуляции овуляции с использованием протокола Random start (без привязки к дню менструального цикла) и использовании дуплексных протоколов [11].
Наиболее перспективная стратегия сохранения фертильности при ПОЯ – КК с последующей реимплантацией овариальной ткани. Продолжаются поиски методов, позволяющих верифицировать микрометастазы в ткани яичника, подвергнутой КК, и снизить риск развития рецидива СПОЯ [39].
Заключение
СПОЯ имеют благоприятный прогноз при своевременной диагностике и лечении. При лечении таких опухолей необходимо разработать персональный подход для каждой пациентки, предложить оптимальное лечение и минимизировать риск рецидива. Предпочтительный метод лечения – органосохраняющая операция, позволяющая сохранить фертильность.Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests. The authors declare that there is not conflict of interests.
Информация об авторах
Information about the authors
Киселева Марина Викторовна – д-р мед. наук, зав. отд-нием новых медицинских технологий с группой лечения заболеваний молочной железы ФГБУ «НМИЦ радиологии», проф. каф. акушерства и гинекологии ИПК ФМБА Минздрава России.
E-mail: kismarvic@mail.ru
Marina V. Kiseleva – Dr. Sci. (Med.), Prof., National Medical Research Center of Radiology.
E-mail: kismarvic@mail.ru
Оразов Мекан Рахимбердыевич – д-р мед. наук, проф. каф. акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: omekan@mail.ru;
ORCID: 0000-0002-5342-8129
Mekan R. Orazov – Dr. Sci. (Med.), Prof., Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia.
E-mail: omekan@mail.ru; ORCID: 0000-0002-5342-8129
Пернай Владлена Мариановна – ординатор каф. акушерства
и гинекологии с курсом перинатологии Mедицинского института, ФГАОУ ВО РУДН. E-mail: vladlenapernai@inbox.ru
Vladlena M. Pernay – Medical Resident, Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia.
E-mail: vladlenapernai@inbox.ru
Статья поступила: 18.04.2024
Рецензия 25.04.2024
Принята 25.04.2024
Received: 18.04.2024
Revised: 25.04.2024
Accepted: 25.04.2024
Список исп. литературыСкрыть список1. Otify M, Laios A, Elshamy T, D’Angelo A, Amso NN. A systematic review and meta-analysis of the use of ultrasound to diagnose borderline ovarian tumours. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;244:120-7. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2019.11.016
2. Rasmussen CB, Kjaer SK, Albieri V et al. Pelvic inflammatory disease and the risk of ovarian cancer and borderline ovarian tumors: a pooled analysis of 13 case-control studies. Am J Epidemiol. 2017;26(1):104-9.
3. RH. Young Ovarian tumors: a survey of selected advances of note during the life of this journal. Hum Pathol. 2020;95:169-206.
4. Boyraz G, Salman MC, Gultekin M et al. What is the impact of stromal microinvasion on oncologic outcomes in borderline ovarian tumors? A multicenter case-control study. Arch Gynecol Obstet. 2017;296:979-87.
5. Kurman RJ, Carcangiu ML, Herrington CS, Young RH et al. WHO classification of tumours of female reproductive organs. 4th ed. France International Agency for Research on Cancer. Lyon: IARC Press, 2014.
6. Sun Y, Xu J, Jia X. The diagnosis, treatment, prognosis and molecular pathology of borderline ovarian tumors: current status and perspectives. Cancer Manag Res. 2020;12:3651-9. DOI: 10.2147/cmar. s250394
7. Crane EK, Thaker PH. Borderline tumors of the ovary. In: Textbook of uncommon cancer. Eds. D. Raghavan, M.S. Ahluwalia, Ch.D. Blanke et al. 5th ed. Wiley Blackwel, 2017. P. 572–81.
8. Maramai M, Barra F, Menada MV et al. Borderline ovarian tumours: management in the era of fertility-sparing surgery. Ecancermedicalscience. 2020;14:1031.
9. Nayyar N. Lakhwani P, Goel A et al. Management of borderline ovarian tumors – still a gray zone Indian. J Surg Oncol. 2017;8(4):607-14. DOI: 10.1007/s13193-017-0697-3
10. Каприн А.Д. Старинский В.В., Шахзадова А.О. Состояние онкологической помощи населению России в 2021 г. 2022. Сибирский онкологический журнал. 2023;22(5):5-13. DOI: 10.21294/1814-4861-2023-22-5-5-13
Kaprin A.D. Starinsky V.V., Shakhzadova A.O. The state of oncological care for the population of Russia in 2021-2022. Siberian Journal of Oncology. 2023;22(5):5-13. DOI: 10.21294/1814-4861-2023-22-5-5-13 (in Russian).
11. Gaurilcikas A, Gedgaudaite M, Cizauskas A et al. Performance of the IOTA ADNEX Model on Selected Group of Patients with Borderline Ovarian Tumours. Medicina (Kaunas). 2020;56(12):690. DOI: 10.3390/medicina56120690
12. Sahin H, Akdogan AI, Smith J et al Serous borderline ovarian tumours: an extensive review on MR imaging features. Brit J Radiol. 2021;94(1125):20210116.
13. Yasmeen S, Hannan A, Sheikh F et al. Borderline tumors of the ovary: A clinicopathological study. Pak J Med Sci. 2017;33(2):369-73.
14. Sun H, Chen X, Zhu T et al. Age-dependent difference in impact of fertility preserving surgery on disease-specific survival in women with stage I borderline ovarian tumors. J Ovarian Res. 2018;11:54. DOI: 10.1186/s13048-018-0423-y
15. Tal O, Ganer HH, Gluck O et al. Characteristics and prognosis of borderline ovarian tumors in pre and postmenopausal patients. Arch Gynecol Obstet. 2020;302(3):693-8. DOI: 10.1007/s00404-020-05652-w 238
16. Candotti G, Peiretti M, Mangili G et al. What women want: fertility sparing surgery in borderline ovarian tumours patients and pregnancy outcome. Eur J Surg Oncol. 2020;46(05):888-92. DOI: 10.1016/j.ejso. 2019.11.001
17. Guadagno E, Pignatiello S, Borrelli G et al. Ovarian borderline tumors, a subtype of neoplasm with controversial behavior. Role of Ki67 as a prognostic factor. Pathol Res Pract. 2019;215(11):152633.
18. Ikeda Y, Yoshihara M, Yoshikawa N, Tamauchi S et al. Is cystectomy an option as conservative surgery for young patients with borderline ovarian tumor? A multi-institutional retrospective study. Int J Gynaecol Obstet. 2022. DOI: 10.1002/ijgo.13844
19. Khiat S, Provansal M, Bottin P et al. Fertility preservation after fertility-sparing surgery in women with borderline ovarian tumours. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;253:65-70. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2020.07.053
20. Kumari S, Kumar S, Bhatla N et al. Oncologic and reproductive outcomes of borderline ovarian tumors in Indian population. Gynecol Oncol Rep. 2021;36:100756.
21. Du Bois A, Trillsch F, Mahner S, Heitz F, Harter P. Management of borderline ovarian tumors. Ann Oncol. 2016;27(Suppl 1):i20–i22. DOI: 10.1093/annonc/mdw090
22. Gotlieb WH, Chetrit A, Menczer J et al. Demographic and genetic characteristics of patients with borderline ovarian tumors as compared to early stage invasive ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2005;97(3):780-3.
23. Koskas M, Uzan C, Gouy S, Pautier P et al. Fertility determinants after conservative surgery for mucinous borderline tumours of the ovary (excluding peritoneal pseudomyxoma). Hum Reprod. 2011;26(4):808-14. DOI: 10.1093/humrep/deq399
24. Koutlaki N, Dimitraki M, Zervoudis S et al. Conservative surgery for borderline ovarian tumors – emphasis on fertility preservation: A review. Chirurgia (Bucur). 2011;244:120-27. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2019.11.016
25. Chen RF, Li J, Zhu TT et al. Fertility-sparing surgery for young patients with borderline ovarian tumors (BOTs): single institution experience. J Ovarian Res. 2016;9(1). DOI: 10.1186/s13048-016-0226-y
26. Poncelet C, Fauvet R, Boccara J, Daraï E. Reccurence after cystectomy for borderline ovarian tumors: results of a French multicenter study. Ann Surg Oncol. 2006;13(4):565-71.
27. Johansen G, Dahm-Kähler P, Staf C et al. Reproductive and obstetrical outcomes with the overall survival of fertile-age women treated with fertility-sparing surgery for borderline ovarian tumors in Sweden: a prospective nationwide population-based study. Fertil Steril. 2021;115:157-63.
28. Jia SZ, Xiang Y, Yang JJ, Shi JH et al. Oncofertility outcomes after fertility-sparing treatment of bilateral serous borderline ovarian tumors: results of a large retrospective study. Hum Reprod. 2020;35:328-39.
29. Palomba S, Zupi E, Russo T et al. Comparison of two fertility-sparing approaches for bilateral borderline ovarian tumours: a randomized controlled study. Hum Reprod. 2007;22(2):578-85. DOI: 10.1093/ humrep/del381
30. Kuji S, Harada M, Yoshioka N et al. urvival and reproductive outcomes after fertility-sparing surgery performed for borderline epithelial ovarian tumor in Japanese adolescents and young adults: results of a retrospective nationwide study. J Obstet Gynaecol Res. 2022;48(3):806-16.
31. Новикова Е.Г. Шевчук А.С., Завалишина Л.Э. Некоторые аспекты органосохраняющего лечения пограничных опухолей яичников. Российский онкологический журнал. 2010;15(4):15-20.
Novikova E.G. Shevchuk A.S., Zavalishina L.E. Some aspects of organ-preserving treatment of borderline ovarian tumors. Russian Journal of Oncology. 2010;15(4):15-20. (in Russian).
32. Bourdel N, Huchon C, Abdel Wahab C et al. Borderline ovarian tumors: French guidelines from the CNGOF. Part 2. Surgical management, follow-up, hormone replacement therapy, fertility management and preservation. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2021;50(1):101966. DOI: 10.1016/j.jogoh.2020.101966
33. Киселева М.В. Малинова И.В., Комарова Е.В. и др. Cохранение фертильности у онкологических пациентов репродуктивного возраста методом витрификации овариальной ткани. Research’n Practical Med J. 2016.
Kiseleva M.V. Malinova I.V., Komarova E.V. et al. Preservation of fertility in cancer patients of reproductive age by vitrification of ovarian tissue. Research’n Practical Med J. 2016 (in Russian).
34. Fauvet R, Brzakowski M, Morice P et al. Borderline ovarian tumors diagnosed during pregnancy exhibit a high incidence of aggressive features: results of a French multicenter study. Ann Oncol. 2012;23:
1481-7.
35. Давыдова И.Ю. Карселадзе А.И., Кузнецов В.В., Ашрафян Л.А. и др. Практические рекомендации по лечению пограничных опухолей яичников. Злокачественные опухоли. 2021. DOI: 10.18027/2224-5057-2020-10-3s2-12
Davydova I.Y. Karseladze A.I., Kuznetsov V.V., Ashrafyan L.A. et al. Practical recommendations for the treatment of borderline ovarian tumors. Malignant tumors. 2021. DOI: 10.18027/2224-5057-2020-10-3s2-12 (in Russian).
36. Киселева М.В. Денисов М.С., Литвякова Е.В., Иванов С.А. и др. Сохранение фертильности у больных раком молочной железы: Обзор литературы. Клинический разбор в общей медицине. 2023;4(12):51-7. DOI: 10.47407/kr2023.4.12.00331
Kiseleva M.V. Denisov M.S., Litvyakova E.V., Ivanov S.A. et al. Fertility preservation in breast cancer patients: A literature review. Clinical analysis in general medicine. 2023;4(12):51-7. DOI: 10.47407/kr2023. 4.12.00331 (in Russian).
37. Li S, Lin H, Xie Y et al. Live births after in vitro fertilization with fertility-sparing surgery for borderline ovarian tumors: a case series and literature review. Gynecol Obstet Invest. 2019;84(5):445-54 DOI: 10.1159/000497203
38. Beiner ME, Gotlieb WH, Davidson B et al. Infertility treatment after conservative management of borderline ovarian tumor. Cancer. 2001;92:320-5.
39. Fortin A, Morice P, Thoury A, Camatte S et al. mpact of infertility drugs after treatment of borderline ovarian tumors: results of a retrospective multicenter study. Fertil Steril. 2007;87(3):591.
40. Plett H, Harter P, Ataseven B et al. Fertility-sparing surgery and reproductive – outcomes in patients with borderline ovarian tumors. Gynecol Oncol. 2020;157:411–7.
41. Filippi F, Martinelli F, Somigliana E et al. Oocyte cryopreservation in two women with borderline ovarian tumor recurrence. J Assist Reprod Genet. 2020;37(5):1213-16. DOI: 10.1007/s10815-020-01733-6
42. van Leeuwen FE, Klip H, Mooij TM et al. Risk of borderline and invasive ovarian tumours after ovarian stimulation for in vitro fertilization in a large Dutch cohort. Hum Reprod. 2011;26(12):3456-65. DOI: 10.1093/humrep/der322
43. Mangili G, Somigliana E, Giorgione V, Martinelli F et al. Fertility preservation in women with borderline ovarian tumours. Cancer Treat Rev. 2016;49:13-24. DOI: 10.1016/j.ctrv.2016.06.010
44. Falcone F, Malzoni M, Carnelli M Cormio G et al. Fertility-sparing treatment for serous borderline ovarian tumors with extra-ovarian invasive implants: analysis from the MITO14 study database. Gynecol Oncol. 2022;161:825-31.
45. Geoffron S, Lier A, de Kermadec E et al. Fertility preservation in women with malignant and borderline ovarian tumors: experience of the French ESGO-certified center and pregnancy-associated cancer network (CALG). Gynecol Oncol. 2021;161(3):817-24. DOI: 10.1016/j.ygyno.2021.03.030
46. Gershenson DM Clinical management potential tumours of low malignancy. Best Pract. Res. Clin Obstetr Gynaecol. 2002;16(4):513-27. DOI: 10.1053/beog.2002.0308
47. Hauptmann S, Friedrich K, Redline R, Avril S. Ovarian borderlin tumors in the 2014 WHO classification: evolving concepts and diagnostic criteria. Virchows Arch. 2017;470(2):125-42.
48. Lertkhachonsuk AA, Buranawongtrakoon S, Lekskul N, Rermluk N et al. Serum CA19-9, CA-125 and CEA as tumor markers for mucinous ovarian tumors. J Obstet Gynaecol Res. 2020;46(11):2287-91. DOI: 10.1111/jog.14427
49. Nagamine M, Mikami Y. Ovarian seromucinous tumors: pathogenesis, morphologic spectrum, and clinical issues. Diagnostics (Basel). 2020;10:77. DOI: 10.3390/diagnostics10020077
50. Rasmussen ELK, Hannibal CG, Dehlendorff C et al. Parity, infertility, oral contraceptives, and hormone replacement therapy and the risk of ovarian serous borderline tumors: A nationwide case-control study. Gynecol Oncol. 2017;144(3):571-6.
51. Zuo T, Wong S, Buza N, Hui P. KRAS mutation of extraovarian implants of serous borderline tumor: prognostic indicator for adverse clinical outcome. Mod Pathol. 2018;31(2):350-7.
52. Ожиганова И.Н. Морфология рака яичников в классификации ВОЗ 2013 г. Практическая онкология. 2014;15(4):143-52.
Ozhiganova I.N. Morphology of ovarian cancer in the 2013 WHO classification. Practical oncology. 2014;15(4):143-52 (in Russian).
4 июня 2024
Количество просмотров: 380