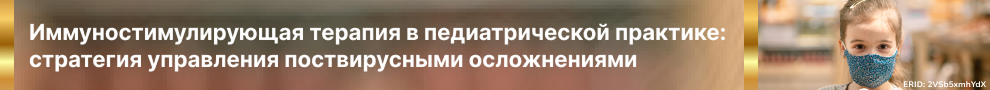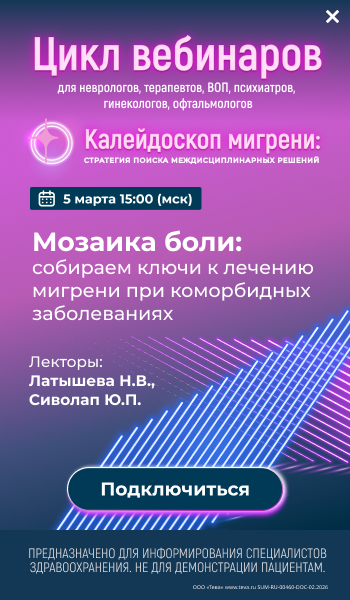Психиатрия Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина
Психиатрия Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина
№02 2014
Слово в защиту клинициста (об использовании медицинских опросных инструментов в психиатрии) №02 2014
Номера страниц в выпуске:59-64
Методологические подходы, которые привнесла доказательная медицина в клиническую практику, привели к тому, что в привычном взаимодействии «врач–больной» появился посредник – медицинский опросный инструмент (психометрическая шкала, структурированное интервью и т.д.). Статья посвящена рассмотрению некоторых дискурсных характеристик нового типа коммуникации «врач–шкала–больной», их сравнению с традиционной коммуникацией между врачом и пациентом. Кроме того, в статье затрагиваются вопросы, связанные с определением предмета исследования в психиатрии.
Резюме. Методологические подходы, которые привнесла доказательная медицина в клиническую практику, привели к тому, что в привычном взаимодействии «врач–больной» появился посредник – медицинский опросный инструмент (психометрическая шкала, структурированное интервью и т.д.). Статья посвящена рассмотрению некоторых дискурсных характеристик нового типа коммуникации «врач–шкала–больной», их сравнению с традиционной коммуникацией между врачом и пациентом. Кроме того, в статье затрагиваются вопросы, связанные с определением предмета исследования в психиатрии.
Ключевые слова: медицинские опросные инструменты, дискурс, клинический метод, массовый опрос, патологическая реальность.
A word in defence of the clinician (on the use of clinical research questionnaires in psychiatry)
E.N.Davtian1,2, S.V.Koudria3
1Russian State Pedagogical University named after A.I.Herzen, Department of Clinical Psychology and Psychological Assistance;
2City PND №7, St.-Petersburg;
3St.-Petersburg State University, Faculty of Philology, Department of English Language and Cultural Linguistics
Summary. The methodology of evidence-based medicine has set the scene for appearance of a mediator in the conventional doctor-patient communication. This mediator is a clinical research questionnaire: a psychometric scale, a structured interview, and so on. The article highlights discourse features of this new type of communication «doctor–scale–patient» and compares it with the conventional doctor-patient communication. Also, the article discusses the issues of definition of the subject matter in psychiatry research.
Key words: clinical research questionnaires, discourse, clinical method, survey research, pathological reality.
Знание укладки атомов в мозгу летучей мыши не помогает понять, что значит чувствовать себя летучей мышью.
Традиционно предметом исследования в психиатрии были проявления безумия, которые вплоть до конца XVIII в. рассматривались в рамках темы «страдания души». Концепт души, доминировавший в средневековом сознании, дал название науке о «лечении души» – психиатрии. В обиходе современного человека прочно обосновались понятия о восприятии и мышлении, памяти и эмоциях, представления о генах, рецепторах и мозге. Мир изменился, а старое название осталось. Психиатрия – по-прежнему наука о болезнях души, хотя концепт «душа» для сознания современного человека безнадежно устарел.
Существующие в настоящее время тенденции развития науки, с одной стороны, и недостаточная определенность предмета исследования в психиатрии («страдающая душа», «психическая болезнь») – с другой, привели к возникновению странной ситуации: своеобразному противостоянию психиатров-ученых и психиатров-практиков, интересы которых очевидно не совпадают. Психиатры-ученые (в современном понимании этого слова как «люди, “делающие” науку») по большей части придерживаются позиции тождества ментального и телесного (элиминативный материализм) и направляют свои усилия на поиск биологических коррелятов психических болезней, в то время как психиатры-практики по старинке продолжают лечить «душу». Ученые стандартизируют и унифицируют методы диагностики для возможно более «полного устранения из оценки результата вмешательства “человеческого фактора”» [1], практики «человеческий фактор» продолжают культивировать (клинический метод). Ученые апеллируют к доказательной медицине, практики – к клинической реальности. Первые проводят свои исследования для «оказания помощи» практикам (фармакологические испытания, новые классификации, разработка диагностических критериев для упрощения и унификации врачебной работы), вторые эту помощь, по-видимому, в основном не замечают. Дело дошло до того, что предметом исследования ученых-психиатров стало само мышление врачей-практиков (алгоритмы принятия решений, предложение о введении прототипной диагностики) [2].
Вероятно, как следствие сложившейся ситуации в русскоязычных научных журналах появился модный тренд – недовольство клиницистами. Вот только несколько цитат из ведущих профессиональных изданий за последний год:
Каким бы абсурдным это ни казалось, но критика в адрес клиницистов периодически выходит за пределы собственно профессионального сообщества и ведется медийными персонажами [5]. Более того, в отечественной психиатрии выросло поколение «белых воротничков» – молодых ученых, воспитанных на канонах доказательной медицины, которые легко ориентируются в актуальных тенденциях мировой психиатрической моды, хорошо разбираются в статистике и без труда пишут объемные тексты, при этом ни дня не проработав в клинике. Их появление как бы опровергает еще недавно казавшийся незыблемым тезис о том, что основой любой врачебной деятельности, и психиатрической в том числе, является взаимодействие с больным. Эта ситуация нам не представляется безобидной. Основой любого процесса воспитания (обучения), в том числе профессионального, является процесс «окультуривания» (Р.Рорти), иначе говоря, процесс овладения традиционным институциональным дискурсом, без которого невозможно осмысленное принятие дискурса иного.
Причины сложившейся странной ситуации в психиатрии неоднозначны и многообразны. Это и затянувшийся теоретический кризис с заменой традиционных (феноменологических) психиатрических исследований фармакологическими, генетическими и нейрокогнитивными. Это и боязнь мировой психиатрической элиты «стать посмешищем» в глазах медицинского сообщества с игнорированием особенностей психиатрической науки, принципиально отличающих ее от других медицинских специальностей (языковая, гуманитарная направленность). Это и тенденция к разрушению традиционного институционального дискурса с появлением в психиатрии принципиально иного способа взаимодействия «врач–больной». Именно последнее обстоятельство нам представляется особенно важным и недостаточно освещенным в специальной литературе.
Методологические подходы, которые привнесла доказательная медицина в клиническую практику, привели к тому, что в привычном взаимодействии «врач–больной» появился посредник – медицинский опросный инструмент (МОИ): психометрическая шкала, структурированное интервью и т.д. Рассмотрению дискурсных характеристик этого нового типа коммуникации «врач–шкала–больной», их сравнению с традиционной коммуникацией между врачом и пациентом и посвящена эта статья.
Согласно Т. ван Дейку в интерпретации текста (высказывания) имеют значение как общие, социально обусловленные ожидания человека от определенного типа дискурса, так и личные, более частные модели опыта, личные представления и информированность человека о том, что относится к данной теме. Иначе говоря, имеют большое значение информация, идущая от реального процесса взаимодействия участников разговора, характеристика социальной ситуации и разные типы культурных сценариев в памяти людей. Кроме того, в памяти существуют организованные по семантическому принципу представления об объектах и личностях, о единицах, категориях и правилах языка, которые и обеспечивают процесс понимания высказывания (текста). При этом следует отметить, что модель события, сконструированная реципиентом, никогда не будет полностью совпадать с моделью того же самого события, имеющейся у автора текста.
При всех недостатках клинического дискурса – традиционного взаимодействия «врач–пациент» (к недостаткам относят прежде всего субъективность врачебных оценок) он существует не менее трехсот лет (М.Фуко) и представляет собой вполне сложившуюся систему коммуникации. В каждом обществе существует набор конвенциональных установлений (правил, законов, принципов, норм, ценностей), которые определяют, какие конкретные речевые действия возможны в конкретной ситуации. Клиницист в беседе с больным следует переплетениям всех возможных конвенциональных институциональных установлений, налагаемым ими требованиям и ограничениям. Помимо институционального регламента, в котором должны действовать (и действуют) больной и врач, существуют также индивидуальные параметры коммуникативной ситуации, всегда учитываемые клиницистом в ходе беседы. Эти индивидуальные параметры давно описаны М.М.Бахтиным и сводятся к индивидуальным характеристикам адресата: «…насколько он [больной] осведомлен в ситуации, обладает ли он специальными знаниями... его взгляды и убеждения, его предубеждения, его симпатии и антипатии… Этот учет определяет и выбор жанра высказывания, и выбор композиционных приемов, и, наконец, выбор языковых средств, то есть стиль высказывания» [7]. К настоящему моменту разработана достаточная научная теоретическая база для описания традиционной институциональной коммуникации «врач–больной»: от классических работ М.Фуко до многочисленных современных исследований [8–11].
В отличие от традиционного типа коммуникации «врач–больной» взаимодействие при помощи текста, ориентированного преимущественно на массовые обследования (survey research), изучено мало. МОИ сформировался на стыке как минимум двух типов институционального дискурса: медицинского (и ýже – клинического) и дискурса сферы массовых опросов. Дискурс массовых опросов возник и оформился за пределами медицины, ему около ста лет. Проведенный нами анализ современной отечественной и зарубежной теоретической и методической литературы, посвященной составлению опросных инструментов [12–19], показал, что в сфере массовых опросов уже сложились определенные коммуникативные стратегии и тактики, определенные стилистические и композиционные традиции – конвенции разработки и оформления языкового инструмента исследования. Эти существующие конвенции накладывают свои ограничения на 1) ход и содержание коммуникации с больным через посредство опросного инструмента и 2) на возможности языкового творчества в описании объектов исследования – симптомов, отдельных проявлений заболевания, эмоциональных состояний, телесных ощущений.
ежду тем требование унифицированности интерпретаций очевидно является невыполнимым, ведь в основе этого требования лежит идеальная модель коммуникации, при которой происходит полная передача смысла, что предполагает идеальный код общения и полную идентичность автора и адресата. О том, что эта модель не соответствует сути языковой коммуникации, говорит выдающийся филолог Ю.С.Лотман: «Идеально одинаковые передающий и принимающий хорошо будут понимать друг друга, но им не о чем будет говорить… В нормальном человеческом общении и, более того, в нормальном функционировании языка заложено предположение об исходной неидентичности говорящего и слушающего... Более того, непонимание (разговор не на полностью идентичных языках) представляется столь же ценностным смысловым механизмом, что и понимание. Исключительная победа любого из этих полюсов – разрушение информации, которая создается в поле их взаимного напряжения» [20]. Таким образом, в интерпретации любой одной лексемы естественным образом существуют межиндивидуальные различия: слово в речи индивидуально коннотировано для каждого интерпретирующего. Приведем несколько примеров.
Словосочетание «контролировать себя» в контексте психологической шкалы по-разному интерпретируется респондентами в зависимости от личного опыта: «быть эмоционально сдержанным», «не пить алкоголь», «не есть после 18:00» (наблюдение наше. – Прим. С.К.). Все эти интерпретации соответствуют общепринятым, но только первая соответствует намерению автора – спросить о способности сдерживать эмоции.
В литературе описана вариативность интерпретаций под воздействием так называемых эффектов субъективного ощущения. Так, давно обнаружен и исследуется эффект настроения [21]. В одном эксперименте респондентов спрашивали, в какой мере они ощущают себя счастливыми. В ходе эксперимента выяснилось, что ответ на этот стимул зависел от того, задавался вопрос в солнечную или пасмурную погоду.
Индивидуальные различия в интерпретации отдельных слов являются не единственной помехой в осуществлении успешной передачи содержания стимула от автора МОИ к респонденту. Проведенное С.Садменом и Н.Бредберном [17] фундаментальное исследование когнитивных процессов, задействованных в интерпретации респондентом вопроса анкетного стимула, показало, что на интерпретацию стимула респондентом сильно влияют также контекстуальные связи, в которые вступают друг с другом содержание стимула и варианты ответов, а также их последовательность и взаиморасположение.
Это вполне естественно: МОИ является фиксированным посредником в коммуникации в том смысле, что ни исследователь, ни говорящий согласно правилам и условиям проведения интервью не могут воздействовать на анкетный стимул спонтанными речевыми реакциями, т.е. не могут уточнить смысл стимула. В отсутствие собеседника респонденту остается декодировать смысл стимула, только опираясь на весь текст МОИ как на вербальный заменитель коммуниканта.
Так, на интерпретацию респондентами ключевых слов анкетного вопроса могут влиять варианты ответов. Если респондента спрашивают, как часто он «действительно раздражался», то интерпретация этого словосочетания будет зависеть от того, выражают варианты ответа низкую или высокую частотность. Варианты ответа, выражающие низкую частотность («менее одного раза в месяц», «несколько раз в год»), дают респонденту основания заключить, что речь идет о сильном раздражении. Если предлагается шкала более высокой частотности («раз в день», «несколько раз в день»), респондент заключает, что речь идет о случаях незначительного раздражения.
Еще один пример. Двум группам респондентов был задан вопрос об их удовлетворенности жизнью. При этом в одном случае перед стимулом, посвященным общей удовлетворенности жизнью, стоял стимул, посвященный удовлетворенности браком. Респонденты сознательно исключали «удовлетворенность браком» из интерпретации стимула об общей удовлетворенности жизнью, поскольку они уже сказали об этом ранее [17]. Такой эффект контекста часто наблюдается, когда стимул, посвященный частному аспекту изучаемого явления, предшествует стимулу, посвященному более общему аспекту этого же явления: при ответе на «общий» стимул респондент не будет учитывать того, что он сказал ранее при ответе на «частный».
Составители МОИ стремятся получить при опросе независимую от контекста информацию, как того требует статистический принцип единообразной процедуры: согласно этому принципу каждый вопрос-стимул должен интерпретироваться так, как если бы он был изолированной единицей. Только тогда собранная информация будет достоверной. Однако это требование отсутствия контекстуальных связей в тексте опросного инструмента вступает в противоречие с природой текста и когерентностью (связностью) как одной из его основополагающих категорий: в процессе интерпретации больной естественным образом будет пытаться установить смысловые связи между стимулами вне зависимости от того, в какой форме (устной или письменной) и в какой последовательности они предъявлены, ибо «не бывает бессвязного дискурса» [22].
Итак, требование унифицированности интерпретации тематических лексем респондентами и требование внеконтекстной интерпретации респондентами каждого отдельного стимула идут вразрез с естественной многозначностью слова в речи и со связностью как текстовой категорией.
Специалисты в области массовых опросов работают над способами сужения вариативности интерпретаций и управления влиянием контекста. Считается, что эти способы достаточно эффективны в ситуации массового опроса: в ходе статистической процедуры смещения смыслов взаимно погашаются, выделяется «общий» для исследуемой популяции смысл. Однако очевидным представляется то, что методы, разработанные для обследования больших групп, необязательно подходят для обследования отдельного человека. Недаром фундаментальный труд, посвященный анкетному методу, крупнейшего немецкого социолога Э.Ноэль-Нойманн называется «Все, но не каждый» [16].
Важно помнить также, что опросный инструмент как жанр разрабатывался для работы с душевно здоровыми респондентами, у которых смещения смыслов в достаточной степени предсказуемы и объяснимы, а мировосприятие, восприятие письменной речи, способность пользоваться языком в принципе схожи с мировосприятием и языковой компетенцией самих исследователей. При использовании опросного инструмента в целях диагностики психопатологических феноменов ситуация кардинально меняется: процессы смыслообразования искажаются болезнью, становится критически важным, как именно интерпретировал вопросы анкеты данный больной, какие именно толкования и ассоциации вызвали у данного больного конкретные слова анкеты (ведь от результатов анкетирования зависит верификация психопатологического состояния, а от верификации состояния – лечебная тактика или научные выводы).
2. Согласно М.Фуко «искусство описывать факты есть высшее в медицине искусство, все меркнет перед ним» [24]. Качественный язык клинических описаний по своим характеристикам должен тяготеть не к формализованным языкам типа языка арифметики, а быть «соразмерным сразу и вещам, которые он описывает, и речи, в которой он их описывает». Язык клинического описания должен быть строг в использовании семантических оттенков и соблюдать «мудрую осторожность», не представляя реальность в абстрактных терминах. Очевидно, что это требование к языку клинического описания продиктовано необходимостью зафиксировать мельчайшие элементы смысла, которые могут оказаться клинически значимыми. Известно, что в интерпретации слов и словосочетаний, описывающих эмоциональные состояния и телесные ощущения («мне плохо», «боль», «апатия» и т.п.), наблюдается большой разброс. Приведем пример из «Философских исследований» Л.Витгенштейна, иллюстрирующий возможности лексического обозначения чувственного опыта: «Предположим, у всех есть коробки с чем-то внутри; это что-то мы назовем “жуком”. Никто не может заглянуть в чужую коробку, и все говорят, будто знают, что такое “жук”, разглядывая каждый своего “жука”» [25]. Что же будет означать, по Л.Витгенштейну, слово «жук» на языке этих людей? Вряд ли слово «жук» будет означать то, что находится в коробке, ведь никто этого не знает, коробка может оказаться вообще пустой. То, что «находится в коробке», будет отличать одного человека от другого, но оно трудноуловимо в процессе речевого взаимодействия, а при психической патологии требует профессионального прицельного расспроса.
В психиатрии хорошо известны трудности в вербализации больными нового патологического чувственного опыта (например, при деперсонализации, сенестопатиях, витальной тоске), для которого нет адекватных обозначений в обыденном языке («чужеродность чувственному восприятию»). Как следствие, больные употребляют в речи большое количество метафор в попытках «объяснить необъяснимое», используя все ресурсы своей языковой компетенции. Причем каждая метафора несет свой индивидуальный патологический смысл, прояснить который возможно только при активном и прямом взаимодействии с больным.
Между тем неотъемлемой дискурсной чертой МОИ является полиадресность, что обусловливает использование обобщающих номинаций, абстрагированных от конкретной ситуации больного, которые неинформативны для постановки диагноза: например, «удовлетворенность», «удовольствие от жизни», «контроль», «неудовлетворительное общение с людьми», «заторможенность», «тревожные мысли», «чувство тревоги». Очевидно, что такой лексически редуцированный язык опросного инструмента совершенно не способствует пониманию индивидуальных психических отклонений у отдельного больного, а наоборот, нивелирует индивидуальные смыслы, единственно важные для корректной диагностики.
3. Эти проблемы множатся, если учесть, что многие МОИ, которые используются сегодня для диагностики в психиатрии, являются переводными версиями англоязычных оригиналов. Следует помнить, что слова, обозначающие эмоции и телесные ощущения (а это основная тематическая лексика медицинских опросников), объективируют те базовые эмоциональные концепты, которые выделили для себя носители конкретного языка и культуры по мере становления и изменения этого пласта лексики. Семантическая структура слов, обозначающих телесные и эмоциональные концепты, является национально-специфической, что вызывает сложности при переводе и является источником искажения смысла ключевых слов даже при строгом соблюдении всех формальных процедур языковой валидации МОИ [26, 27].
Прогресс медицинского знания связан, помимо прочего, и с прогрессом медицинского инструментария: «от визуального осмотра, аускультации и пальпации… к микроскопу и биотестам» [27]. В этом контексте, как мы полагаем, МОИ представляет собой новый, языковой инструмент наблюдения в ряду других инструментов, возникший в связи с новыми потребностями медицинских исследований. Описанные выше особенности языка медицинского опросника – лишь первый шаг в научных исследованиях коммуникации «врач–шкала–больной». Работы на эту тему, в том числе лингвистические, уже есть и, безусловно, будут продолжать появляться. Со временем медицинские опросные инструменты займут подобающее им место в ряду прочих способов обследования. Однако в свете сказанного выше очевидно, что способность МОИ полноценно выполнять диагностическую функцию и заменить в этом смысле традиционную клиническую беседу нам представляется весьма сомнительной.
Болезнь представляет собой не простую сумму знаков, а пучок знаков определенной конфигурации, точно так же как значение слова естественного языка представляет собой не сумму всех своих лексических значений, а скорее пучок сем, выделенных и скомпонованных человеком в одном слове в процессе порождения высказывания. Согласно М.Фуко «форма композиции сущности болезни принадлежит к лингвистическому типу… задаваться вопросом о том, что является сущностью болезни, – это все равно как если бы задаться вопросом, какова природа сущности слова» [24]. Опытный врач-психиатр – это врач, умеющий слышать этот «пучок сем» в высказывании больного и интерпретировать патологические смыслы и контексты реальности больного как клинические знаки. Уже в силу этого процедура ответов на вопросы опросника, пусть даже обладающего «интеллектом», учитывающим некоторые возможные реакции больного, не может заменить беседы с врачом.
Человек является объектом и субъектом одновременно. Соотношение между психиатрией (как наукой о болезнях «души») и прочими врачебными специальностями примерно такое же, как соотношение между гуманитарными и естественно-научными дисциплинами. Если соматическая медицина имеет дело преимущественно с «объектом» (телом), то принципиальное отличие психиатрической специальности в том, что она имеет дело в основном с субъектом («душой»). Со времен К.Ясперса весь клинический диагностический психиатрический аппарат имеет почти исключительно языковую (феноменологическую) природу, которая не поддается объективации естественно-научными методами.
В настоящее время психиатрия переживает возврат к органической гипотезе с бумом органических концепций («болезни души – это болезни мозга»). Со времен Декарта и Гоббса предположение о том, что естественно-научный дискурс – это единственный нормальный дискурс и все другие дискурсы должны быть уподоблены ему, является стандартным мотивом для научных исследований. Однако эта позиция вот уже более ста лет подвергается серьезной и весьма успешной критике. Весь XX век – это поиск философских обоснований для иной дискурсивной системы (герменевтической) с попыткой «переописать человека» и поместить «классическую картину в картину большего масштаба» (см. работы Г.Гадамера, П.Фейерабенда, М.Хайдеггера, Р.Рорти и др.). Даже если когда-нибудь мы будем знать о мозге все и сможем предсказывать, какой звук выйдет изо рта больного, мы все равно не будем знать, что этот звук означает [29]. «Главный наш миф – это миф о мозге… Мы ищем и пытаемся найти в скрипке и пальцах музыканта спрятанную там мелодию» [30].
Пытаясь уподобиться прочим медицинским специальностям, психиатрия попадает в ловушку, ибо «от рождения» имеет другой, несоизмеримый с нормальным естественно-научным дискурсом, язык. Однако, по Р.Рорти [29], «несоизмеримость влечет за собой несводимость [одного дискурса к другому], но не несовместимость... Герменевтика приспособлена к “духу” или к “наукам о человеке”, в то время как другие методы подходят “природе”… две эти дисциплины не конкурируют друг с другом, скорее, оказывают друг другу помощь» [29].
уществование любой науки определяется ее способностью сформулировать предмет исследования и представить «его естественную жизнь». В свою очередь, выделение предмета исследования определяет систему операций, образующих научный метод, так как «предмет исследования всегда коррелятивен методу» [31]. Что же является предметом исследования в психиатрии? Концепт «души» устарел, однако, по Л.Витгенштейну, язык повседневного общения уже совершенен как средство передачи информации и в улучшении не нуждается: «С обычным языком все в порядке» («Ordinary language is all right») [32]. И в этом совершенном обыденном современном языке уже есть подходящее слово – реальность. Сегодня мы слышим слово «реальность» чаще, чем слово «душа». Более того, в повседневной речи эксплицитно представлено уже несколько реальностей: виртуальная, политическая, экономическая, клиническая… Психиатры давно работают с патологическими реальностями: депрессивной, параноидной, аутистической и т.д. «Одной из базовых характеристик сознания человека на рубеже XX–XXI столетий становится способность… конструировать модели мира, тем самым порождая множество субъективных реальностей – потенциальных либо реальных интерпретаций мира» [33].
У психиатрии есть предмет изучения – патологическая реальность, в которой существует больной человек. Есть инструмент изучения – язык, описывающий эту реальность: «реальность дана нам в нашем языке и только в нем» [30]; «человек есть человек, поскольку он отдан в распоряжение языка» [34]. Психиатрии до определенной степени известны механизмы трансформации здоровых реальностей в патологические. «Изучение человека, понимаемого как реальность, описанная его языком» [30] – основной принцип клинического метода. Быть может, не так уж и не правы клиницисты, отстаивая свой клинический метод, – лучший на сегодняшний день инструмент для работы с патологическими реальностями.
Сведения об авторах
Давтян Елена Николаевна – канд. мед. наук, доц. каф. клин. психологии и психологической помощи ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена; зав. дневным стационаром №3 ГБУЗ Городской психоневрологический диспансер №7, Санкт-Петербург. E-mail: elena.davtian@gmail.com
Кудря Светлана Владимировна – канд. филол. наук, ст. преподаватель каф. английской филологии и лингвокультурологии ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет. E-mail: svetlana.koudria@gmail.com
Ключевые слова: медицинские опросные инструменты, дискурс, клинический метод, массовый опрос, патологическая реальность.
A word in defence of the clinician (on the use of clinical research questionnaires in psychiatry)
E.N.Davtian1,2, S.V.Koudria3
1Russian State Pedagogical University named after A.I.Herzen, Department of Clinical Psychology and Psychological Assistance;
2City PND №7, St.-Petersburg;
3St.-Petersburg State University, Faculty of Philology, Department of English Language and Cultural Linguistics
Summary. The methodology of evidence-based medicine has set the scene for appearance of a mediator in the conventional doctor-patient communication. This mediator is a clinical research questionnaire: a psychometric scale, a structured interview, and so on. The article highlights discourse features of this new type of communication «doctor–scale–patient» and compares it with the conventional doctor-patient communication. Also, the article discusses the issues of definition of the subject matter in psychiatry research.
Key words: clinical research questionnaires, discourse, clinical method, survey research, pathological reality.
Знание укладки атомов в мозгу летучей мыши не помогает понять, что значит чувствовать себя летучей мышью.
Р.Рорти
Традиционно предметом исследования в психиатрии были проявления безумия, которые вплоть до конца XVIII в. рассматривались в рамках темы «страдания души». Концепт души, доминировавший в средневековом сознании, дал название науке о «лечении души» – психиатрии. В обиходе современного человека прочно обосновались понятия о восприятии и мышлении, памяти и эмоциях, представления о генах, рецепторах и мозге. Мир изменился, а старое название осталось. Психиатрия – по-прежнему наука о болезнях души, хотя концепт «душа» для сознания современного человека безнадежно устарел.
Существующие в настоящее время тенденции развития науки, с одной стороны, и недостаточная определенность предмета исследования в психиатрии («страдающая душа», «психическая болезнь») – с другой, привели к возникновению странной ситуации: своеобразному противостоянию психиатров-ученых и психиатров-практиков, интересы которых очевидно не совпадают. Психиатры-ученые (в современном понимании этого слова как «люди, “делающие” науку») по большей части придерживаются позиции тождества ментального и телесного (элиминативный материализм) и направляют свои усилия на поиск биологических коррелятов психических болезней, в то время как психиатры-практики по старинке продолжают лечить «душу». Ученые стандартизируют и унифицируют методы диагностики для возможно более «полного устранения из оценки результата вмешательства “человеческого фактора”» [1], практики «человеческий фактор» продолжают культивировать (клинический метод). Ученые апеллируют к доказательной медицине, практики – к клинической реальности. Первые проводят свои исследования для «оказания помощи» практикам (фармакологические испытания, новые классификации, разработка диагностических критериев для упрощения и унификации врачебной работы), вторые эту помощь, по-видимому, в основном не замечают. Дело дошло до того, что предметом исследования ученых-психиатров стало само мышление врачей-практиков (алгоритмы принятия решений, предложение о введении прототипной диагностики) [2].
Вероятно, как следствие сложившейся ситуации в русскоязычных научных журналах появился модный тренд – недовольство клиницистами. Вот только несколько цитат из ведущих профессиональных изданий за последний год:
- «На практике многим врачам проще идти уже проторенной дорогой…, активно сопротивляясь всему новому» [3].
- «Коллеги… давно не читают современную профессиональную литературу, не знают английского языка и не умеют нажать единственную кнопку на компьютере» [4].
- «Критика доказательной медицины исходит в основном от ремесленного корпуса клиницистов. Именно они растерялись от несовпадения выводов доказательной медицины и задач ремесленной практики» [1].
Каким бы абсурдным это ни казалось, но критика в адрес клиницистов периодически выходит за пределы собственно профессионального сообщества и ведется медийными персонажами [5]. Более того, в отечественной психиатрии выросло поколение «белых воротничков» – молодых ученых, воспитанных на канонах доказательной медицины, которые легко ориентируются в актуальных тенденциях мировой психиатрической моды, хорошо разбираются в статистике и без труда пишут объемные тексты, при этом ни дня не проработав в клинике. Их появление как бы опровергает еще недавно казавшийся незыблемым тезис о том, что основой любой врачебной деятельности, и психиатрической в том числе, является взаимодействие с больным. Эта ситуация нам не представляется безобидной. Основой любого процесса воспитания (обучения), в том числе профессионального, является процесс «окультуривания» (Р.Рорти), иначе говоря, процесс овладения традиционным институциональным дискурсом, без которого невозможно осмысленное принятие дискурса иного.
Причины сложившейся странной ситуации в психиатрии неоднозначны и многообразны. Это и затянувшийся теоретический кризис с заменой традиционных (феноменологических) психиатрических исследований фармакологическими, генетическими и нейрокогнитивными. Это и боязнь мировой психиатрической элиты «стать посмешищем» в глазах медицинского сообщества с игнорированием особенностей психиатрической науки, принципиально отличающих ее от других медицинских специальностей (языковая, гуманитарная направленность). Это и тенденция к разрушению традиционного институционального дискурса с появлением в психиатрии принципиально иного способа взаимодействия «врач–больной». Именно последнее обстоятельство нам представляется особенно важным и недостаточно освещенным в специальной литературе.
Методологические подходы, которые привнесла доказательная медицина в клиническую практику, привели к тому, что в привычном взаимодействии «врач–больной» появился посредник – медицинский опросный инструмент (МОИ): психометрическая шкала, структурированное интервью и т.д. Рассмотрению дискурсных характеристик этого нового типа коммуникации «врач–шкала–больной», их сравнению с традиционной коммуникацией между врачом и пациентом и посвящена эта статья.
Согласно Т. ван Дейку в интерпретации текста (высказывания) имеют значение как общие, социально обусловленные ожидания человека от определенного типа дискурса, так и личные, более частные модели опыта, личные представления и информированность человека о том, что относится к данной теме. Иначе говоря, имеют большое значение информация, идущая от реального процесса взаимодействия участников разговора, характеристика социальной ситуации и разные типы культурных сценариев в памяти людей. Кроме того, в памяти существуют организованные по семантическому принципу представления об объектах и личностях, о единицах, категориях и правилах языка, которые и обеспечивают процесс понимания высказывания (текста). При этом следует отметить, что модель события, сконструированная реципиентом, никогда не будет полностью совпадать с моделью того же самого события, имеющейся у автора текста.
При всех недостатках клинического дискурса – традиционного взаимодействия «врач–пациент» (к недостаткам относят прежде всего субъективность врачебных оценок) он существует не менее трехсот лет (М.Фуко) и представляет собой вполне сложившуюся систему коммуникации. В каждом обществе существует набор конвенциональных установлений (правил, законов, принципов, норм, ценностей), которые определяют, какие конкретные речевые действия возможны в конкретной ситуации. Клиницист в беседе с больным следует переплетениям всех возможных конвенциональных институциональных установлений, налагаемым ими требованиям и ограничениям. Помимо институционального регламента, в котором должны действовать (и действуют) больной и врач, существуют также индивидуальные параметры коммуникативной ситуации, всегда учитываемые клиницистом в ходе беседы. Эти индивидуальные параметры давно описаны М.М.Бахтиным и сводятся к индивидуальным характеристикам адресата: «…насколько он [больной] осведомлен в ситуации, обладает ли он специальными знаниями... его взгляды и убеждения, его предубеждения, его симпатии и антипатии… Этот учет определяет и выбор жанра высказывания, и выбор композиционных приемов, и, наконец, выбор языковых средств, то есть стиль высказывания» [7]. К настоящему моменту разработана достаточная научная теоретическая база для описания традиционной институциональной коммуникации «врач–больной»: от классических работ М.Фуко до многочисленных современных исследований [8–11].
В отличие от традиционного типа коммуникации «врач–больной» взаимодействие при помощи текста, ориентированного преимущественно на массовые обследования (survey research), изучено мало. МОИ сформировался на стыке как минимум двух типов институционального дискурса: медицинского (и ýже – клинического) и дискурса сферы массовых опросов. Дискурс массовых опросов возник и оформился за пределами медицины, ему около ста лет. Проведенный нами анализ современной отечественной и зарубежной теоретической и методической литературы, посвященной составлению опросных инструментов [12–19], показал, что в сфере массовых опросов уже сложились определенные коммуникативные стратегии и тактики, определенные стилистические и композиционные традиции – конвенции разработки и оформления языкового инструмента исследования. Эти существующие конвенции накладывают свои ограничения на 1) ход и содержание коммуникации с больным через посредство опросного инструмента и 2) на возможности языкового творчества в описании объектов исследования – симптомов, отдельных проявлений заболевания, эмоциональных состояний, телесных ощущений.
Ограничения в ходе и содержании коммуникации
- Любой опросный инструмент разрабатывается таким образом, что анкетный вопрос существует лишь в совокупности с вариантами ответов на него. Иначе говоря, автор опросного инструмента имеет свое готовое представление об «объективном положении вещей» и выражает его при помощи комплекса «вопрос плюс варианты ответов». В этой ситуации роль больного как участника диалога редуцирована по сравнению с вопросно-ответной коммуникацией «врач–больной» при клинической беседе. Выбирая ответ на анкетный вопрос, больной не создает нового высказывания, не сообщает о том, что беспокоит именно его, он лишь подтверждает (или не подтверждает) определенные знания врача о ситуации больного, заложенные в вопросно-ответном единстве «вопрос плюс варианты ответов». Следовательно, познавательная ценность вопросов медицинской анкеты зависит от авторского понимания и представления об исследуемой ситуации. Клиническая диагностика при помощи МОИ по своей сути сводится к регистрации реакций больного на анкетные стимулы, а научные исследования – к перебиранию вариантов этих реакций у разных категорий больных, причем без возможности получения новых теоретических клинических обобщений: модель исследуемого феномена уже задана автором анкеты.
- Эффективность МОИ как посредника в передаче информации определяется однозначностью интерпретации каждого входящего в него стимула. Сам термин «опросный инструмент» говорит о его предназначении снимать разного рода данные – и чем точнее и надежнее инструмент, тем более достоверную информацию с его помощью можно получить. Таким образом, унифицированность интерпретации слов МОИ разными респондентами является не целью, а условием существования анкетного вопроса как средства для сбора данных и МОИ как инструмента в целом: если анкетный вопрос может интерпретироваться по-разному, с его помощью невозможно собрать сопоставимые данные и опросный инструмент перестает быть инструментом. Интерпретация стимулов респондентами становится не процессом понимания текста, а процессом достраивания самого текста. Ведь респондент отвечает не на тот вопрос, который задает автор, а на тот, который он (респондент) понял.
ежду тем требование унифицированности интерпретаций очевидно является невыполнимым, ведь в основе этого требования лежит идеальная модель коммуникации, при которой происходит полная передача смысла, что предполагает идеальный код общения и полную идентичность автора и адресата. О том, что эта модель не соответствует сути языковой коммуникации, говорит выдающийся филолог Ю.С.Лотман: «Идеально одинаковые передающий и принимающий хорошо будут понимать друг друга, но им не о чем будет говорить… В нормальном человеческом общении и, более того, в нормальном функционировании языка заложено предположение об исходной неидентичности говорящего и слушающего... Более того, непонимание (разговор не на полностью идентичных языках) представляется столь же ценностным смысловым механизмом, что и понимание. Исключительная победа любого из этих полюсов – разрушение информации, которая создается в поле их взаимного напряжения» [20]. Таким образом, в интерпретации любой одной лексемы естественным образом существуют межиндивидуальные различия: слово в речи индивидуально коннотировано для каждого интерпретирующего. Приведем несколько примеров.
Словосочетание «контролировать себя» в контексте психологической шкалы по-разному интерпретируется респондентами в зависимости от личного опыта: «быть эмоционально сдержанным», «не пить алкоголь», «не есть после 18:00» (наблюдение наше. – Прим. С.К.). Все эти интерпретации соответствуют общепринятым, но только первая соответствует намерению автора – спросить о способности сдерживать эмоции.
В литературе описана вариативность интерпретаций под воздействием так называемых эффектов субъективного ощущения. Так, давно обнаружен и исследуется эффект настроения [21]. В одном эксперименте респондентов спрашивали, в какой мере они ощущают себя счастливыми. В ходе эксперимента выяснилось, что ответ на этот стимул зависел от того, задавался вопрос в солнечную или пасмурную погоду.
Индивидуальные различия в интерпретации отдельных слов являются не единственной помехой в осуществлении успешной передачи содержания стимула от автора МОИ к респонденту. Проведенное С.Садменом и Н.Бредберном [17] фундаментальное исследование когнитивных процессов, задействованных в интерпретации респондентом вопроса анкетного стимула, показало, что на интерпретацию стимула респондентом сильно влияют также контекстуальные связи, в которые вступают друг с другом содержание стимула и варианты ответов, а также их последовательность и взаиморасположение.
Это вполне естественно: МОИ является фиксированным посредником в коммуникации в том смысле, что ни исследователь, ни говорящий согласно правилам и условиям проведения интервью не могут воздействовать на анкетный стимул спонтанными речевыми реакциями, т.е. не могут уточнить смысл стимула. В отсутствие собеседника респонденту остается декодировать смысл стимула, только опираясь на весь текст МОИ как на вербальный заменитель коммуниканта.
Так, на интерпретацию респондентами ключевых слов анкетного вопроса могут влиять варианты ответов. Если респондента спрашивают, как часто он «действительно раздражался», то интерпретация этого словосочетания будет зависеть от того, выражают варианты ответа низкую или высокую частотность. Варианты ответа, выражающие низкую частотность («менее одного раза в месяц», «несколько раз в год»), дают респонденту основания заключить, что речь идет о сильном раздражении. Если предлагается шкала более высокой частотности («раз в день», «несколько раз в день»), респондент заключает, что речь идет о случаях незначительного раздражения.
Еще один пример. Двум группам респондентов был задан вопрос об их удовлетворенности жизнью. При этом в одном случае перед стимулом, посвященным общей удовлетворенности жизнью, стоял стимул, посвященный удовлетворенности браком. Респонденты сознательно исключали «удовлетворенность браком» из интерпретации стимула об общей удовлетворенности жизнью, поскольку они уже сказали об этом ранее [17]. Такой эффект контекста часто наблюдается, когда стимул, посвященный частному аспекту изучаемого явления, предшествует стимулу, посвященному более общему аспекту этого же явления: при ответе на «общий» стимул респондент не будет учитывать того, что он сказал ранее при ответе на «частный».
Составители МОИ стремятся получить при опросе независимую от контекста информацию, как того требует статистический принцип единообразной процедуры: согласно этому принципу каждый вопрос-стимул должен интерпретироваться так, как если бы он был изолированной единицей. Только тогда собранная информация будет достоверной. Однако это требование отсутствия контекстуальных связей в тексте опросного инструмента вступает в противоречие с природой текста и когерентностью (связностью) как одной из его основополагающих категорий: в процессе интерпретации больной естественным образом будет пытаться установить смысловые связи между стимулами вне зависимости от того, в какой форме (устной или письменной) и в какой последовательности они предъявлены, ибо «не бывает бессвязного дискурса» [22].
Итак, требование унифицированности интерпретации тематических лексем респондентами и требование внеконтекстной интерпретации респондентами каждого отдельного стимула идут вразрез с естественной многозначностью слова в речи и со связностью как текстовой категорией.
Специалисты в области массовых опросов работают над способами сужения вариативности интерпретаций и управления влиянием контекста. Считается, что эти способы достаточно эффективны в ситуации массового опроса: в ходе статистической процедуры смещения смыслов взаимно погашаются, выделяется «общий» для исследуемой популяции смысл. Однако очевидным представляется то, что методы, разработанные для обследования больших групп, необязательно подходят для обследования отдельного человека. Недаром фундаментальный труд, посвященный анкетному методу, крупнейшего немецкого социолога Э.Ноэль-Нойманн называется «Все, но не каждый» [16].
Важно помнить также, что опросный инструмент как жанр разрабатывался для работы с душевно здоровыми респондентами, у которых смещения смыслов в достаточной степени предсказуемы и объяснимы, а мировосприятие, восприятие письменной речи, способность пользоваться языком в принципе схожи с мировосприятием и языковой компетенцией самих исследователей. При использовании опросного инструмента в целях диагностики психопатологических феноменов ситуация кардинально меняется: процессы смыслообразования искажаются болезнью, становится критически важным, как именно интерпретировал вопросы анкеты данный больной, какие именно толкования и ассоциации вызвали у данного больного конкретные слова анкеты (ведь от результатов анкетирования зависит верификация психопатологического состояния, а от верификации состояния – лечебная тактика или научные выводы).
Ограничения в языковой репрезентации объектов исследования
1. Языковые средства, используемые в опросном инструменте (слова, словосочетания, принципы синтаксической организации отдельных предложений), отбираются в соответствии с коммуникативной задачей этого текста – собрать ответы большого числа респондентов для дальнейшей статистической обработки. Филологический анализ текстов МОИ показал [23], что язык медицинского опросника является до некоторой степени искусственно созданным, рационализированным, сконструированным по модели языка науки – со своими смысловыми единствами и оппозициями, не характерными для языка повседневного общения. Этот фактор создает дополнительный языковой барьер, вынуждая больного концентрироваться на интерпретации новых языковых репрезентаций, обучаться этому новому языку, чтобы пытаться общаться на нем с исследователем.2. Согласно М.Фуко «искусство описывать факты есть высшее в медицине искусство, все меркнет перед ним» [24]. Качественный язык клинических описаний по своим характеристикам должен тяготеть не к формализованным языкам типа языка арифметики, а быть «соразмерным сразу и вещам, которые он описывает, и речи, в которой он их описывает». Язык клинического описания должен быть строг в использовании семантических оттенков и соблюдать «мудрую осторожность», не представляя реальность в абстрактных терминах. Очевидно, что это требование к языку клинического описания продиктовано необходимостью зафиксировать мельчайшие элементы смысла, которые могут оказаться клинически значимыми. Известно, что в интерпретации слов и словосочетаний, описывающих эмоциональные состояния и телесные ощущения («мне плохо», «боль», «апатия» и т.п.), наблюдается большой разброс. Приведем пример из «Философских исследований» Л.Витгенштейна, иллюстрирующий возможности лексического обозначения чувственного опыта: «Предположим, у всех есть коробки с чем-то внутри; это что-то мы назовем “жуком”. Никто не может заглянуть в чужую коробку, и все говорят, будто знают, что такое “жук”, разглядывая каждый своего “жука”» [25]. Что же будет означать, по Л.Витгенштейну, слово «жук» на языке этих людей? Вряд ли слово «жук» будет означать то, что находится в коробке, ведь никто этого не знает, коробка может оказаться вообще пустой. То, что «находится в коробке», будет отличать одного человека от другого, но оно трудноуловимо в процессе речевого взаимодействия, а при психической патологии требует профессионального прицельного расспроса.
В психиатрии хорошо известны трудности в вербализации больными нового патологического чувственного опыта (например, при деперсонализации, сенестопатиях, витальной тоске), для которого нет адекватных обозначений в обыденном языке («чужеродность чувственному восприятию»). Как следствие, больные употребляют в речи большое количество метафор в попытках «объяснить необъяснимое», используя все ресурсы своей языковой компетенции. Причем каждая метафора несет свой индивидуальный патологический смысл, прояснить который возможно только при активном и прямом взаимодействии с больным.
Между тем неотъемлемой дискурсной чертой МОИ является полиадресность, что обусловливает использование обобщающих номинаций, абстрагированных от конкретной ситуации больного, которые неинформативны для постановки диагноза: например, «удовлетворенность», «удовольствие от жизни», «контроль», «неудовлетворительное общение с людьми», «заторможенность», «тревожные мысли», «чувство тревоги». Очевидно, что такой лексически редуцированный язык опросного инструмента совершенно не способствует пониманию индивидуальных психических отклонений у отдельного больного, а наоборот, нивелирует индивидуальные смыслы, единственно важные для корректной диагностики.
3. Эти проблемы множатся, если учесть, что многие МОИ, которые используются сегодня для диагностики в психиатрии, являются переводными версиями англоязычных оригиналов. Следует помнить, что слова, обозначающие эмоции и телесные ощущения (а это основная тематическая лексика медицинских опросников), объективируют те базовые эмоциональные концепты, которые выделили для себя носители конкретного языка и культуры по мере становления и изменения этого пласта лексики. Семантическая структура слов, обозначающих телесные и эмоциональные концепты, является национально-специфической, что вызывает сложности при переводе и является источником искажения смысла ключевых слов даже при строгом соблюдении всех формальных процедур языковой валидации МОИ [26, 27].
Прогресс медицинского знания связан, помимо прочего, и с прогрессом медицинского инструментария: «от визуального осмотра, аускультации и пальпации… к микроскопу и биотестам» [27]. В этом контексте, как мы полагаем, МОИ представляет собой новый, языковой инструмент наблюдения в ряду других инструментов, возникший в связи с новыми потребностями медицинских исследований. Описанные выше особенности языка медицинского опросника – лишь первый шаг в научных исследованиях коммуникации «врач–шкала–больной». Работы на эту тему, в том числе лингвистические, уже есть и, безусловно, будут продолжать появляться. Со временем медицинские опросные инструменты займут подобающее им место в ряду прочих способов обследования. Однако в свете сказанного выше очевидно, что способность МОИ полноценно выполнять диагностическую функцию и заменить в этом смысле традиционную клиническую беседу нам представляется весьма сомнительной.
Болезнь представляет собой не простую сумму знаков, а пучок знаков определенной конфигурации, точно так же как значение слова естественного языка представляет собой не сумму всех своих лексических значений, а скорее пучок сем, выделенных и скомпонованных человеком в одном слове в процессе порождения высказывания. Согласно М.Фуко «форма композиции сущности болезни принадлежит к лингвистическому типу… задаваться вопросом о том, что является сущностью болезни, – это все равно как если бы задаться вопросом, какова природа сущности слова» [24]. Опытный врач-психиатр – это врач, умеющий слышать этот «пучок сем» в высказывании больного и интерпретировать патологические смыслы и контексты реальности больного как клинические знаки. Уже в силу этого процедура ответов на вопросы опросника, пусть даже обладающего «интеллектом», учитывающим некоторые возможные реакции больного, не может заменить беседы с врачом.
Человек является объектом и субъектом одновременно. Соотношение между психиатрией (как наукой о болезнях «души») и прочими врачебными специальностями примерно такое же, как соотношение между гуманитарными и естественно-научными дисциплинами. Если соматическая медицина имеет дело преимущественно с «объектом» (телом), то принципиальное отличие психиатрической специальности в том, что она имеет дело в основном с субъектом («душой»). Со времен К.Ясперса весь клинический диагностический психиатрический аппарат имеет почти исключительно языковую (феноменологическую) природу, которая не поддается объективации естественно-научными методами.
В настоящее время психиатрия переживает возврат к органической гипотезе с бумом органических концепций («болезни души – это болезни мозга»). Со времен Декарта и Гоббса предположение о том, что естественно-научный дискурс – это единственный нормальный дискурс и все другие дискурсы должны быть уподоблены ему, является стандартным мотивом для научных исследований. Однако эта позиция вот уже более ста лет подвергается серьезной и весьма успешной критике. Весь XX век – это поиск философских обоснований для иной дискурсивной системы (герменевтической) с попыткой «переописать человека» и поместить «классическую картину в картину большего масштаба» (см. работы Г.Гадамера, П.Фейерабенда, М.Хайдеггера, Р.Рорти и др.). Даже если когда-нибудь мы будем знать о мозге все и сможем предсказывать, какой звук выйдет изо рта больного, мы все равно не будем знать, что этот звук означает [29]. «Главный наш миф – это миф о мозге… Мы ищем и пытаемся найти в скрипке и пальцах музыканта спрятанную там мелодию» [30].
Пытаясь уподобиться прочим медицинским специальностям, психиатрия попадает в ловушку, ибо «от рождения» имеет другой, несоизмеримый с нормальным естественно-научным дискурсом, язык. Однако, по Р.Рорти [29], «несоизмеримость влечет за собой несводимость [одного дискурса к другому], но не несовместимость... Герменевтика приспособлена к “духу” или к “наукам о человеке”, в то время как другие методы подходят “природе”… две эти дисциплины не конкурируют друг с другом, скорее, оказывают друг другу помощь» [29].
уществование любой науки определяется ее способностью сформулировать предмет исследования и представить «его естественную жизнь». В свою очередь, выделение предмета исследования определяет систему операций, образующих научный метод, так как «предмет исследования всегда коррелятивен методу» [31]. Что же является предметом исследования в психиатрии? Концепт «души» устарел, однако, по Л.Витгенштейну, язык повседневного общения уже совершенен как средство передачи информации и в улучшении не нуждается: «С обычным языком все в порядке» («Ordinary language is all right») [32]. И в этом совершенном обыденном современном языке уже есть подходящее слово – реальность. Сегодня мы слышим слово «реальность» чаще, чем слово «душа». Более того, в повседневной речи эксплицитно представлено уже несколько реальностей: виртуальная, политическая, экономическая, клиническая… Психиатры давно работают с патологическими реальностями: депрессивной, параноидной, аутистической и т.д. «Одной из базовых характеристик сознания человека на рубеже XX–XXI столетий становится способность… конструировать модели мира, тем самым порождая множество субъективных реальностей – потенциальных либо реальных интерпретаций мира» [33].
У психиатрии есть предмет изучения – патологическая реальность, в которой существует больной человек. Есть инструмент изучения – язык, описывающий эту реальность: «реальность дана нам в нашем языке и только в нем» [30]; «человек есть человек, поскольку он отдан в распоряжение языка» [34]. Психиатрии до определенной степени известны механизмы трансформации здоровых реальностей в патологические. «Изучение человека, понимаемого как реальность, описанная его языком» [30] – основной принцип клинического метода. Быть может, не так уж и не правы клиницисты, отстаивая свой клинический метод, – лучший на сегодняшний день инструмент для работы с патологическими реальностями.
Сведения об авторах
Давтян Елена Николаевна – канд. мед. наук, доц. каф. клин. психологии и психологической помощи ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена; зав. дневным стационаром №3 ГБУЗ Городской психоневрологический диспансер №7, Санкт-Петербург. E-mail: elena.davtian@gmail.com
Кудря Светлана Владимировна – канд. филол. наук, ст. преподаватель каф. английской филологии и лингвокультурологии ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет. E-mail: svetlana.koudria@gmail.com
Список исп. литературыСкрыть список1. Зорин Н.А. Анализ практической значимости или попытка дискредитации клинической эпидемиологии и доказательной медицины? Психиатр. и психофармакотер. им. П.Б.Ганнушкина. 2013; 15 (2): 61–5.
2. Westen D. Прототипная диагностика психиатрических синдромов. World Psychiatry (русская версия) 2012; 1 (11): 18–23.
3. Мартынихин И.А. Клинический подход и доказательная медицина. Дневник психиатра. 2013; 2: 7–9.
4. Доленко О.В. Продолжая дискуссию об аутизме, детской психиатрии и инклюзии. Вестн. ассоциации психиатров Украины. 2013; 1: 59–62.
5. Стенограмма выступления режиссера Л.Аркус на методологическом семинаре по проблемам аутизма на кафедре клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И.Герцена. http://clinicpsy.ucoz.ru/index/0-350
6. ван Дейк Т. Язык, познание, коммуникация. Сб. работ. Сост. В.В.Петров. М., 1989; с. 122.
7. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Собрание сочинений. М.: Русские словари, 1996. Т. 5: Работы 1940–1960 гг.;
с. 159–206.
8. Барсукова М.И. Медицинский дискурс: стратегии и тактики речевого поведения врача. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2007.
9. Бейлинсон Л.С. Медицинский дискурс. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград, 2000;
с. 103–17.
10. Жура В.В. Дискурсивная компетенция врача в устном медицинском общении. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2008.
11. Aronsson K, Sätterlund-Larsson U. Politeness Strategies and Doctor-Patient Communication. On the Social Choreography of Collaborative Thinking. Journal of Language and Social Psychology 1987; 6 (1): 1–27.
12. Schuman H, Presser S. Question Wording as an Independent Variable in Survey Analysis. Sociological Methods Research 1977; 6: 151–70.
13. Schaeffer NC, Presser S. The Science of Asking Questions. Ann Review Sociology 2003; 29: 65–8.
14. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998.
15. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Учебное пособие для вузов. Екатеринбург, 1998.
16. Ноэль-Нойманн Э., Петерсен Т. Все, но не каждый. Введение в методы демоскопии. М., 2007.
17. Садмен С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М., 2002; с. 79.
18. Рабочая книга социолога. Под ред. Г.В.Осипова, В.Н.Иванова. М., 1983.
19. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, методика, программа, методы. Самара, 1995.
20. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб., 2010;
с. 15–16.
21. Seta CE, Hayes NS, Seta JJ. Mood, Memory and Vigilance: the Influence of Distraction on Recall and Impression Formation. Personality and Social Psychology Bulletin 1994; 20: 170–7.
22. Милевская Т.В. Грамматика дискурса. Ростов-на-Дону, 2003; с. 56.
23. Кудря С.В. Дискурсные характеристики англоязычного медицинского опросного инструмента как типа текста. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2012.
24. Фуко М. Рождение клиники. Пер. с фр. А.Ш.Тхостова. М., 2010; с. 144.
25. Витгенштейн Л. Философские исследования. Людвиг Витгенштейн. Пер. с нем. Л.Добросельского. M., 2011; с. 156.
26. Wierzbicka A. Language and Metalanguage: Key Issues in Emotion Research. Emotion Review 2009; 1 (3): 3–14.
27. Кудря С.В., Давтян Е.Н. Что измеряет шкала депрессии Бека? Психиатр. и психофармакотер. 2013; 15 (2): 57–60.
28. Фуко М. Археология знания. Пер. с фр. М.Б.Раковой, A.Ю.Серебрянниковой. СПб., 2012; с. 83.
29. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997.
30. Давтян С.Э. О системном кризисе психиатрии. Армянский журн. психического здоровья. 2011; 2: 14–20.
31. Степин В.С. Наука и философия. Вопр. философии. 2010; 8: 58–75.
32. Витгенштейн Л. Голубая и коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям». Пер. с англ. В.А.Суворцева, В.В.Иткина. Новосибирск, 2008; с. 59.
33. Королева Н.Н. Психосемиотика субъективных реальностей личности. Автореф. д-ра псих. наук. СПб., 2006.
34. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991.