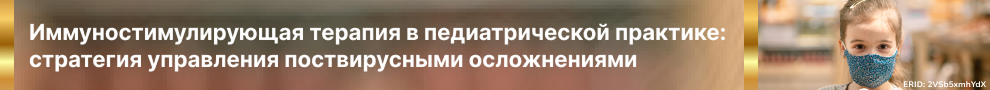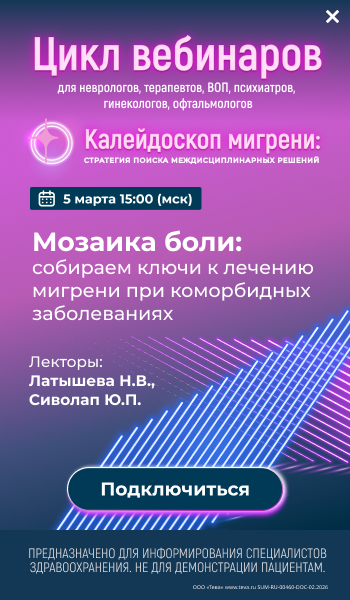Психиатрия Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина
Dynamics of cortisol and dehydroepiandrosterone- sulfate levels in patients
with affective spectrum disorders during venlafaxine therapy
L.N. Gorobets, V.S. Bulanov, A.V. Litvinov
Abstract
Introduction. Despite the convincing data on dysfunction of the HPA axis in patients with depressive disorder, the results of studies on the effect of modern antidepressants on its activity remain ambiguous. An analysis of the scientific literature allows us to state an extremely small number of publications in recent years on the study of the levels of cortisol and DHEA-S in patients with affective disorders during therapy with blood pressure, which makes it relevant to conduct research in this direction.
The aim of this study was to clarify the dynamics of cortisol (C) and dehydroepiandrosterone- sulfate (DHEA-S) levels in patients with affective disorders during venlafaxine (Venlaksor) therapy.
Materials and methods. The study included 72 patients: 24 men and 48 women aged 20 to 55 years (mean age 43.8±14.2 years) with affective spectrum disorders (F31.3; F33.1; F41.2). Therapy was carried out with the drug venlafaxine (Venlaksor, Grindex) at a dose of 75-150 mg/day as monotherapy. The average daily dosage is 141.16±52.3 mg/day. Cortisol and dehydroepiandrosterone – sulfate were measured before starting therapy, after 14 days, and after 28 days of therapy.
Results and discussion. Venlafaxine (Venlaksor) therapy for 4 weeks was effective in assessing responsiveness (more than 50% reduction on the HDRS scale) in all patients studied. A specific feature of the dynamics of cortisol in patients with bipolar disorder during therapy with venlafaxine is a significant increase in its average values by 14 days (p=0.039) and by the end of the study (p=0.029), which is accompanied by a tendency towards a decrease in the average levels of DHEA-S. During 14 and 28 days the days of therapy, significant increases in the C/DHEA-S ratio were noted. In patients with RDD, there were only tendencies towards an increase in the mean values of cortisol and DHEA-S during therapy, all mean values of hormones were in the normative ranges, and there was a decrease in the values of the C/DHEA-S ratio. In patients with ADD, there was a slight increase in mean cortisol values in the middle of treatment, followed by a significant (p=0.049) decrease by the end of therapy.
Conclusions. The study showed that venlafaxine, in addition to its high efficacy, demonstrated its ambiguous effect on the dynamics of cortisol and DHEA-S levels. In patients with bipolar disorder, cortisol levels increased against the background of a decrease in DHEA-S values, which may be associated with residual depressive symptoms and the predominance of catabolic processes. In patients with RDD, venlafaxine therapy did not significantly affect the C level, but led to a decrease in the level of the anabolic hormone DHEA-S in some patients. At the same time, a decrease in the C/DHEA-S ratio was noted, which may indicate a tendency to normalize the balance of the HPA axis and the beginning of remission. Interpretation of the data obtained in patients with ADD is extremely difficult due to the existing diagnostic uncertainty of ADD, on the one hand, and the multidirectional and instability of fluctuations in the levels of C and DHEA-S, on the other.
Key words: cortisol, dehydroepiandrosterone – sulfate, affective spectrum disorders, venlafaxine, anabolic and catabolic balance.
For citation: Gorobets L.N., Bulanov V.S., Litvinov A.V. Dynamics of cortisol and dehydroepiandrosterone- sulfate levels in patients with affective spectrum disorders during venlafaxine therapy. Psychiatry and psychopharmacotherapy. 2021; 5: 14–21.
Актуальность
Одним из важнейших достижений нейрофизиологии за последние годы явилось осмысление роли стероидных гормонов при изучении нарушений различных звеньев гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси (ГГА-оси) у больных с расстройствами аффективного спектра. Значительное количество исследований посвящено этому вопросу при изучении депрессии как одного из самых распространенных психических заболеваний [1–6].
Интерпретация повышенной активности гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы при депрессивных расстройствах основывается на тесной взаимосвязи нейротрансмиттерных и гормональной систем. Повышение уровня кортизола приводит к росту активности МАО-А, из-за чего в головном мозге снижается уровень норадреналина и серотонина [7, 8], что подтверждается нейровизуализационными исследованиями МАО-активности и согласуется с моноаминовой гипотезой депрессии [9, 10].
Несмотря на прогресс исследований, касающихся биологии гормонов ГГА-оси, остается много неясных вопросов о механизмах их действия, нейробиологических свойствах, потенциальной вовлеченности в развитие аффективных и тревожных расстройств [11,12].
Известно, что адренокортикотропный гормон (АКТГ), кортизол (К), дегидроэпиандростерон (ДГЭА) и ДГЭА- сульфат (ДГЭА-С) играют важную роль в функционировании и развитии мозга. Тропные гормоны гипофиза управляют синтезом и высвобождением стероидных гормонов (главным образом глюкокортикоидов) из коры надпочечников. В свою очередь, глюкокортикоиды по механизму обратной связи способны угнетать синтез АКТГ в гипофизе, а также синтез кортиколиберина в гипоталамусе. Стероидные соединения могут влиять на нейрональную активность, а изменения в чувствительной к глюкокортикоидам системе мозга могут лежать в основе изменений состояния ГГА-оси, связанных со стрессом, депрессивными расстройствами и шизофренией [14–18].
Исследования показывают, что более 80% пациентов с депрессией имеют те или иные нарушения, связанные с ГГА-осью, которые являются наиболее устойчивыми эндокринными нарушениями. Состояние ГГА-оси при депрессии характеризуется следующими проявлениями: гиперкортизолемия [19, 20]; гипокортизолемия или нормокортизолемия [21, 22]; отсутствие реакции на дексаметазоновый тест [23, 24]; уменьшение функции глюкокортикоидных рецептов [25, 26]; увеличение объема надпочечников [27]; снижение уровней ДГЭА и ДГЭА-С [28, 29]. Кроме того, в ряде исследований показано, что при депрессивных расстройствах наблюдается повышенная патологическая активность ГГА-оси, однако причины подобной активности пока недостаточно ясны [21, 30, 31].
В большинстве случаев, у больных с депрессией обнаруживается гиперкортизолемия на фоне снижения уровня ДГЭА-С. В связи с этим, представляют интерес исследования, касающиеся вопросов соотношения уровней ДГЭА-С и К в концепции «анаболического баланса», согласно которой соотношение анаболических и катаболических гормонов может характеризовать расположенность к стрессу, старению и развитию психических заболеваний [32–35].
К настоящему времени установлено, что гиперсекреция К вызывает сдвиг метаболизма в сторону катаболических процессов, т.е. процессы распада и высвобождения энергии начинают преобладать над анаболическими процессами. Об этом также свидетельствует низкий уровень гормонов, обладающих анаболическим эффектом, в частности, ДГЭА и ДГЭА-С [34].
Считается, что высокий уровень К и низкий уровень ДГЭА является неблагоприятным прогностическим признаком терапевтической динамики [36]. Это может свидетельствовать об истощении анаболических возможностей организма по мере увеличения длительности заболевания [35].
Несмотря на убедительные данные о нарушениях функционирования ГГА-оси у пациентов с депрессивным расстройством, результаты исследований о влиянии современных антидепрессантов на ее активность остаются до настоящего времени противоречивыми [37, 38].
Вместе с тем, экспериментально установлено, что длительная терапия трициклическими антидепрессантами (ТЦА) и селективными ингибиторами обратного захвата норадреналина (СИОЗН) увеличивает количество глюкокортикоидных рецепторов (ГР) в гиппокампе крыс [39, 40]. Механизм изменения концентрации ГР под воздействием антидепрессантов остается неясным. Хорошо известно, что антидепрессанты влияют на норадренергическую и серотонинергическую синаптическую передачу.
В свою очередь указанные нейротрансмиттерные системы влияют на плотность ГР в гиппокампе. Так, серотонин и агонисты 5-HT рецепторов ее повышают. Кроме того, экспериментально установлено, что в результате дисбаланса серотониновой системы уменьшается способность к связыванию кортикостерона в гиппокампе крыс [41].
Антидепрессанты других групп – селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин и циталопрам и активатор обратного захвата серотонина (АОЗС) – тианептин (коаксил) не оказывают какого-либо эффекта на ГР. Вероятно, тианептин ингибирует ГГА-ось, при этом не увеличивает уровень ГР, а воздействует напрямую на процесс синтеза и секреции кортикотропин-рилизинг-гормона (КТГ). СИОЗС также влияют на ГГА-ось не путем регуляции рецепторов, через иные механизмы, например, увеличивая количество минералокортикоидных рецепторов (МР) или воздействуя на секрецию КТГ [42, 43]. Хотя в большинстве исследований оценка эффекта антидепрессантов производилась согласно их влиянию на ГР, нельзя исключать значимость МР, которые также регулируют уровень кортикостерона как в нормальных физиологических условиях, так и во время развития стрессовой реакции – по механизму обратной связи [44]. Отсутствие эффектов СИОЗС на число рецепторов глюкокортикоидов, доказывает, что действие антидепрессантов не связано лишь с их влиянием на концентрацию моноаминов и, по всей видимости, имеет более сложный механизм [43].
Долгосрочное назначение антидепрессантов приводит к снижению уровня АКТГ и кортикостерона в кровеносном русле, а также концентрации КТГ в гипоталамусе [42, 45]. Этот ингибирующий эффект на ГГА-ось продемонстрирован в экспериментальных исследованиях, проведенных на крысах, для большинства групп антидепрессантов – ТЦА, ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО), АОЗС и СИОЗС. Флуоксетин и циталопрам не изменяли уровень кортикостерона у крыс, но при этом во время применения флуоксетина у пациентов зарегистрировано снижение уровня КТГ и вазопрессина в цереброспинальной жидкости [46].
Недавно проведенный метаанализ публикаций, касающихся изменения уровня К в крови и слюне до и после назначения антидепрессантов, показал, что у 54% пациентов в процессе терапии антидепрессантами уровень гормона не меняется [47].
В ряде научных публикаций продемонстрированы данные о влиянии отдельных антидепрессантов на снижение активности ГГА-оси: миртазапина [48], циталопрама [49], амитриптилина [50], сертралина [51] и пароксетина [52].
В работе Golden R. et al (1990) приводятся данные о том, что кломипрамин, напротив, может способствовать повышению активности ГГА-оси [53]. Можно предположить, что влияние на деятельность ГГА-оси может рассматриваться как одна из составляющих тимоаналептического ответа, и должно учитываться при тестировании новых препаратов [3]. Кроме того, нельзя исключить, что различия препаратов по влиянию на уровни К и ДГЭА-С могут играть роль и в формировании резистентности, так как при определенных типах депрессивного расстройства может регистрироваться гипокортизолемия [22].
Существует устойчивое мнение, что нормализация показателей ГГА-оси зависит от результативности лечения. Так, клинические исследования демонстрируют гиперфункцию ГГА-оси у пациентов с депрессией и нормализацию функционирования после успешно проведенной терапии [54, 55]. Напротив, у пациентов с остаточной депрессивной симптоматикой после лечения уровень К оставался повышенным [56]. Важно обратить внимание, что наиболее стойкая нормализация уровня К регистрируется при достаточно длительных исследованиях у пациентов, достигших стойкой ремиссии [54, 55].
Таким образом, восстановление нормального функционирования системы ГГА-оси может являться одним из маркеров стойкой ремиссии, тогда как нестабильная гормональная дисфункция указывает на нестойкость достигнутого клинического улучшения и необходимость изменения терапевтической тактики [6]. Одним из показателей успешной терапии психических заболеваний и, в частности, депрессий, является снижение показателей соотношения К/ДГЭА-С (снижение уровня кортизола и повышение уровня ДГЭА-С) [35, 57].
Анализ научной литературы позволяет констатировать крайне малое количество публикаций последних лет по исследованию уровней К и ДГЭА-С у больных с аффективными расстройствами в процессе терапии АД, что делает актуальным проведение исследований в данном направлении.
Целью настоящего исследования являлось уточнение особенностей динамики уровней кортизола и дегидроэпиандростерона-сульфата у больных с аффективными расстройствами в процессе терапии венлафаксином.
Материалы и методы
В исследование были включены 72 больных: 24 мужчины и 48 женщин в возрасте от 20 до 53 лет (средний возраст 43,8±14,2 лет) с расстройствами аффективного спектра, проходившие стационарное и амбулаторное лечение в клиниках Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России в 2018–2020 г.г. Длительность заболевания составляла от 1 года до 12 лет.
В соответствии с критериями МКБ-10, у 24 больных (1 группа) было диагностировано биполярное аффективное расстройство (БАР) – F31.3; у 32 больных (2 группа) – рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени тяжести (РДР) – F33.1 и у 16 больных (3 группа) – смешанное тревожное и депрессивное расстройство (ТДР) – F41.2). Всем пациентам проводилась монотерапия препаратом венлафаксин (Венлаксор, Гриндекс) в дозе 75-150 мг/сут. Средняя суточная дозировка составляла 141,16±52,3 мг/сутки.
Пациенты включались в исследование согласно следующим критериям: соответствие пациентов критериям МКБ-10 диагнозов F31.3, F33.1, F41.2; возраст от 18 до 53 лет; баллы по шкале Гамильтона (HDRS) более 16 баллов. Критерии исключения: органические заболевания ЦНС; эндокринные заболевания; тяжелые формы соматических заболеваний. У всех пациентов было получено информированное согласие на участие в исследовании. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (протокол №24/3 от 2018 г.).
Исследование с использованием шкалы оценки депрессии Гамильтона HDRS-21 [58] и шкале оценки тревоги Гамильтона HARS [59] проводилось при поступлении и через 28 дней от начала терапии. Гормональные исследования проводились до начала терапии, через 14 дней и через 28 дней терапии. К респондерам относились пациенты, у которых отмечалась снижение суммарного балла по шкале оценки депрессии Гамильтона более чем на 50% к 28 дню терапии по сравнению с исходными значениями. Сравнительный анализ гормональных показателей проводился как между группами, так и внутри каждой группы.
Определение уровней гормонов К и ДГЭА-С проводилось натощак в утренние часы в сыворотке крови иммуноферментным методом на фотометре вертикального сканирования MultiscanAgent («Labsystems», Финляндия) с использованием реактивов фирмы «АлкорБио». Референсные значения гормонов:К – 150–660 нмоль/л; ДГЭА-С – 1,0–4,2 мгк/мл.
Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием компьютерной статистической программы «Statistiсa» версия 6.0 (StatsoftInc.,USA) с вычислением средних значений (М) и ошибки среднего (±SE). Для сравнения показателей применялись непараметрические методы статистической оценки: для сравнения двух зависимых переменных – критерий Вилкоксона и χ2, анализ межгрупповых различий проводился с помощью теста Манна-Уитни и χ2. Для исследования взаимосвязи между переменными использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена (r). Различия считались значимыми при р<0,01.
Результаты
Основные клинико-демографические показатели у исследованных больных приведены в табл.1.


Как видно из данных табл.1, группы были сопоставимы по возрасту и средним дозам антидепрессанта. Средние значения длительности заболевания были значимо (p=0,003) выше во второй группе. Также во 2-й и 3-й группах преобладали больные женского пола.
Результаты динамической оценки выраженности депрессии и тревоги у обследованных пациентов представлены на рис. 1 и на рис. 2.
Согласно полученным данным, фоновые средние баллы по шкалам HDRS и HARS составили в 1-й группе 25,5±5,8 и 9,1±3,3 баллов; во 2-й группе – 23,2±4,9 и 11,2±5,3 баллов, в 3-й группе – 19,4±2,7 и 28,1±10,3 баллов для каждой шкалы соответственно. Самый низкий показатель по шкале HDRS и самый высокий по шкале HARS отмечен в 3-й группе пациентов. Значимые межгрупповые различия составили: HDRS–1 и 3 группы (р=0,015); 2 и 3 группы (р=0,009); HARS–1 и 3 группы (р=0,019); 2 и 3 группы (р=0,007).
К 28 дню терапии отмечено значимое (р≤0,01) снижение средних показателей по шкалам HDRS и HARS во всех группах: в 1-й группе до 13,1±2,3и 4,0±1,9 баллов; во 2-й группе – до 11,5±2,7 и 3,4±0,9 баллов, в 3-й группе – до 7,4±1,2 и 6,7±1,7 баллов.
Значимых межгрупповыхразличий по показателям шкал к 28 дню терапии не выявлено.
Динамика средних значений уровня кортизола представлена на рис. 3.
Средние показатели К у больных с БАР превышали нормативные и повышались от этапа к этапу: фон – 665,74±234,51 нмоль/л; 14 день – 743,23±412,63 нмоль/л;
28 день –746,43±297,34 нмоль/л. Значимые различия выявлены между 1 и 2 (р=0,039) и 1-3 (р=0,029) этапами.
Во второй группе отмечалась аналогичная динамика, но изменения были незначительными и все средние значения гормона
не превышали референсные пределы (599,54± 198,40 нмоль/л; 618,68±224,63 нмоль/л; 621,85±305,12 нмоль/л; соответственно этапам исследования). У больных с ТДР, как и во 2 группе, средние значения К на всем протяжении исследования находились в нормативном диапазоне, но динамика была разнонаправленной – незначительное повышение к 14 дню и значимое (р=0,049) снижение к 3 этапу (636,21±333,50 нмоль/л; 644,25±297,12 нмоль/л; 506,25±312,70 нмоль/л, соответственно этапам). Выявлены значимые различия уровня гормона у пациентов 1 и 3 групп к концу исследования (р=0,019).
Результаты анализа частоты встречаемости пациентов с уровнем К, превышающим верхние нормативные значения, представлен на рис. 4. У пациентов с БАР повышенный фоновый уровень К выявлен в 41,66% случаев (1032,84±284,22 нмоль/л), через 14 дней – в 58,33% (1018,14±321,1 нмоль/л.) и в 66,66% (746,46±212,32 нмоль/л) к концу исследования. Значимые различия между 1 и 3 этапами (р=0,018). У пациентов РДР повышенный фоновый уровень К выявлен у 25% пациентов (956,75±164,12 нмоль/л), через 14 дней – у 31,25% (956,64±180,12 нмоль/л) и у 31,25% пациентов (906,21±198,30 нмоль/л) к концу исследования. В 3 группе: фон – у 37,5% (1002,23±196,13 нмоль/л); 14 день – 37,5% (1132,33±344,80 нмоль/л); 28 день – 25% (1167,50±268,30 нмоль/л). Значимые (р=0,012) различия в частоте встречаемости пациентов с повышенным уровнем К выявлены на третьем этапе терапии между 1 и 2 (р=0,012) и между 1 и 3 (р=0,015) группами.
Как видно из данных рис. 5, средние показатели уровня ДГЭА-С у пациентов в группах находились в нормативном диапазоне на всех этапах исследования. У больных с БАР отмечались незначительные колебания уровня гормона с тенденцией к снижению к 28 дню терапии (фон – 2,10±1,87 мгк/мл; 14 день – 2,14±1,21 мгк/мл; 28 день – 1,56±0,95 мгк/мл); у пациентов с РДР – незначительное его повышение от этапа к этапу (1,77±1,20 мгк/мл; 14 день – 2,00±1,34 мгк/мл; 28 день – 2,13±1.80 мгк/мл). У больных с ТДР отмечена разнонаправленность динамики – значимое (р=0,045) повышение к 14 дню терапии и значимое (р=0,031) снижение к концу исследования (фон – 2,12±1,44 мгк/мл; 14 день –3,37±1,84 мгк/мл; 28 день – 2,05±1,12 мгк/мл). На 14 день исследования выявлены значимые различия в показателях гормона между 1 и 2 (р=0,049) и 1 и 3 (р=0,035) группами. Более детальный анализ позволил выявить повышенные фоновые значения гормона у 16,66% пациентов 1 группы (4,95±1,22 мкг/мл); у 6,25% (4,80±0,21 мкг/мл.) 2 группы и у 12,5% (7,1±1,08 мкг/мл) 3 группы. У 8,3% пациентов 1 группы (0,51±0,25 мкг/мл) и у 12,5% пациентов 3 группы (0,3±0,45 мкг/мл.) выявлены показатели ниже референсных значений. Через 14 дней терапии повышенный уровень гормона в 1 группе выявлен в 25% случаев (4,90±1,04 мкг/мл); во 2группе в 12,5% случаев (5,60±1,11 мкг/мл) и в 3 группе – в 12,5% (7,83±0,19 мкг/мл). При этом возросло число пациентов с низкими значениями гормона в 1 группе – 16,66% (0,57±0,22 мкг/мл) и во 2 группе – 12,5% (0,44±0,16 мкг/мл). В 3 группе число пациентов с пониженным уровнем ДГЭА-С оставалось без изменений – 12,5% (0,57±0,22 мкг/мл). К концу исследования не обнаружено пациентов с повышенным уровнем гормона. В 1 группе он оставался сниженным у 8,3% (0,72±0,16 мкг/мл.), во 2 группе – у 25% (0,55±0,11 мкг/мл) и в 3 группе – у 12,5% (0,61±0,18 мкг/мл) пациентов.
Анализ динамики показателей соотношения К/ДГЭА-С у пациентов с БАР обнаружил их значимое (р=0,025; р=0,009–2 и 3 этапы) повышение в процессе терапии: фон –317±85; 2 этап –353±79; 3 этап –466± 56. У пациентов
2 группы динамика показателей соотношения К/ДГЭА-С имела тенденцию к снижению: фон –333±55; 2 этап – 309± 47; 3 этап –295 ± 36. У больных с ТДР динамика соотношения К/ДГЭА-С была иной. В отличии от 1 и 2 групп на
2 этапе исследования показатели значимо(р=0,017) снижались, а затем значимо (р=0,013) повышались к окончанию терапии (фон – 302±52; 2 этап – 189±41; 3 этап – 253±34). Кроме того, необходимо отметить, что на 14 и 28 дни терапии соотношение К/ДГЭА–С у больных 1 группы были значимо (р=0,015; р=0,007–2 и 3
этапы, соответственно) выше по сравнению со 2 и 3 группами (рис.6).
Обсуждение
По результатам проведенного исследования, монотерапия венлафаксином (Венлаксор) в течение 4 недель была эффективной по оценке респонса (снижение более 50% по шкале HDRS) у всех обследованных пациентов с расстройствами аффективного спектра, что согласуется с данными ряда научных публикаций [60, 61].

Учитывая длительность терапии 28 дней, оценка эффективности по достижению ремиссии в представленном исследовании не проводилась.
Полученные результаты исследования уровней К у обследованных пациентов позволяют констатировать, что особенностью динамики гормона у пациентов с БАР в процессе терапии венлафаксином является значимое повышение средних его показателей к 14 дню (р=0,039) и к окончанию исследования (р=0,029), причем все показатели превышали верхнюю границу референсных значений. Кроме того, отмечено значимое (р=0,018) повышение количества пациентов с высокими уровнями К 28 дню терапии. Эти процессы сопровождались тенденцией к снижению средних уровней ДГЭА-С и колебаниями числа пациентов с высокими и низкими показателями гормона и наличием пациентов с низкими значениями ДГЭА-С к концу терапии. В результате, как к 14, так и к 28 дню терапии отмечены значимые повышения показателя соотношения К/ДГЭА-С. Полученные результаты, с одной стороны, можно интерпретировать как преобладание катаболических процессов над анаболическими [32,33], а с другой – наличием остаточной депрессивной симптоматики, требующей продолжения антидепрессивной терапии у больных с БАР [6]. Полученные нами данные в целом совпадают с рядом краткосрочных исследований ГГА-оси у больных с депрессивными расстройствами в процессе терапии, в которых указывается, что следует ожидать нормализации показателей гормонов при формировании ремиссии, т.е. при более длительной терапии [54,55,62].
У пациентов с РДР отмечались лишь тенденции к повышению средних показателей К и ДГЭА-С в процессе терапии, и все значения гормонов находились в нормативных диапазонах. Число пациентов с повышенными значениями К колебалось незначительно (25–31%), в то время как к концу терапии число пациентов с показателями ДГЭА-С ниже референсных значений увеличилось и составляло 25%. Можно говорить о том, что терапия венлафаксином (Венлаксор) не оказывала значительного влияния на уровень К, но приводила к снижению уровня анаболического гормона ДГЭА-С у части больных. Вместе с тем, в результате терапии венлафаксином отмечалось снижение показателей соотношения К/ДГЭА-С, что может свидетельствовать о тенденции нормализации баланса ГГА-оси и начале становления ремиссии. Мы предполагаем, что у больных с РДР эти процессы происходят за счет нормализации концентрации серотонина и норадреналина в синаптической щели в процессе терапии препаратом, селективно ингибирующем обратный захват этих моноаминов, что согласуется с данными ряда научных работ [8,10].
У пациентов с ТДР отмечены следующие особенности динамики показателей К: отмечалось незначительное повышение средних значений в середине лечения с последующим его значимым (р=0,049) снижением к концу терапии. Как и у пациентов 2 группы, средние значения не превышали референсные границы.
Средние значения уровней ДГЭА-С у пациентов с ТДР к 14 дню значимо(р=0,045) повышались, а затем значимо (р=0,031) снижались до исходного уровня. Число больных с повышенным или пониженным уровнем гормона было незначительным и не влияло на средние показатели в группе. Выявленные изменения средних значений К и ДГЭА-С нашли свое отражение в динамике соотношений К/ДГЭА-С: понижение показателей к 14 и повышение к 28 дню терапии у пациентов с ТДР. Интерпретация полученных данных у больных с ТДР крайне затруднительна в связи с имеющейся диагностической неопределенностью ТДР с одной стороны и разнонаправленностью и неустойчивостью колебаний уровней К и ДГЭА-С – с другой [62].
К ограничениям настоящего исследования относятся небольшая выборка пациентов с ТДР и ограниченность временных рамок исследования (28 дней). Необходимо также отметить, что данное исследование касалось изучения уровней только 2 гормонов ГГА-оси, что, безусловно, ограничивает целостное представление о функционировании системы гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников у больных с аффективными расстройствами. Несмотря на указанные ограничения, результаты проведенного исследования, а также противоречивость данных научной литературы свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований в направлении уточнения роли гормонов ГГА-оси как биологических маркеров, которые могут быть использованы для предикции ответа на антидепрессивную терапию у больных с аффективными расстройствами.
Вместе с тем, полученные результаты дают основание для проведения дальнейших исследований с целью уточнения влияния терапии различными классами антидепрессантов на состояние ГГА-оси.
Заключение
Несмотря на убедительные данные о нарушениях функционирования ГГА-оси у пациентов с депрессивными и тревожными расстройствами, результаты исследований о влиянии антидепрессантов на активность указанной эндокринной системы противоречивы. По всей вероятности, это связано с тем, что по современным представлениям она является наиболее устойчивой у данной категории больных.
В большинстве научных исследований успешность терапии АД связывают с нормализацией уровня К [54, 55] , повышением уровня ДГЭА-С и снижением показателей соотношения К/ДГЭА-С [63]. Вместе с тем имеются данные о том, что у 54% пациентов уровень К в процессе терапии не меняется независимо от ее результатов [47].
Данные нашего исследования терапии венлафаксином (Венлаксор) позволяют констатировать, что повышение уровня К у пациентов с БАР, также как и при терапии кломипрамином [53], не препятствовало успешности терапии, как и незначительное снижение показателей ДГЭА-С и повышение соотношения К/ДГЭА-С. В то же время у пациентов-респондеров с РДР и ТДР было отмечено снижение уровней К на фоне разнонаплавленных колебаний ДГЭА-С и соотношений К/ДГЭА-С, что сопоставимо с данными литературы при применении ряда ТЦА и СИОЗС [22]. Данных по влиянию СИОЗСН на уровни гормонов ГГА-оси в научной литературе обнаружить не удалось.
Как указывалось выше, получение целостного представления о состоянии ГГА-оси у больных с аффективными расстройствами в процессе антидепрессивной терапии требует проведения дальнейших более продолжительных исследований на более репрезентативных выборках с определением как центральных (КТГ и АКТГ), так и периферических гормонов ГГА-оси.
СВЕДЕНИЯ об АВТОРЕ:
Горобец Людмила Николаевна – д-р мед. наук, проф., рук. отд. психиатрической эндокринологии МНИИП – филиала ФГБУ .НМИЦ ПН
им.В.П. Сербского.. E-mail: gorobetsln@mail.ru
Психиатрия Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина
№05 2021
Динамика уровней кортизола и дегидроэпиандростерона-сульфата у больных с расстройствами аффективного спектра в процессе терапии венлафаксином №05 2021
Резюме
Введение. Несмотря на убедительные данные о нарушениях функционирования ГГА-оси у пациентов с депрессивным расстройством, результаты исследований о влиянии современных антидепрессантов на ее активность остаются до настоящего времени противоречивыми. Анализ научной литературы позволяет констатировать крайне малое количество публикаций последних лет по исследованию уровней кортизола (К) и дегидроэпиандростерона – сульфата (ДГЭА-С) у больных с аффективными расстройствами в процессе терапии АД, что делает актуальным проведение исследований в данном направлении.
Целью настоящего исследования являлось уточнение особенностей динамики уровней кортизола и дегидроэпиандростерона-сульфата у больных с аффективными расстройствами в процессе терапии венлафаксином.
Материалы и методы. В исследование были включены 72 больных: 24 мужчины и 48 женщин в возрасте от 20 до 53 лет (средний возраст 43,8±14,2 лет) с расстройствами аффективного спектра (F31.3; F33.1;F41.2), Терапия проводилась препаратом венлафаксин (Венлаксор, Гриндекс) в дозе 75–150 мг/сут в качестве монотерапии. Средняя суточная дозировка – 141,16±52,3 мг/сут. Кортизол и дегидроэпиандростерона-сульфат определяли до начала терапии, через 14 дней и через 28 дней терапии.
Результаты и обсуждение. Терапия венлафаксином (Венлаксор) в течение 4 недель была эффективной по оценке респонса (снижение более 50% по шкале HDRS) у всех исследованных больных. Особенностью динамики К у пациентов с БАР в процессе терапии венлафаксином является значимое повышение средних его показателей к 14 дню (р=0,039) и к окончанию исследования (р=0,029), которое сопровождается тенденцией к снижению средних уровней ДГЭА-С. К 14 и к 28 дням терапии отмечены значимые повышения показателя соотношения К/ДГЭА-С. У пациентов с РДР отмечались лишь тенденции к повышению средних показателей К и ДГЭА-С в процессе терапии, все средние значения гормонов находились в нормативных диапазонах и отмечалось снижение показателей соотношения К/ДГЭА-С. У пациентов с ТДР отмечалось незначительное повышение средних значений К в середине лечения с последующим его значимым (р=0,049) снижением к концу терапии.
Выводы. В исследовании показано, что венлафаксин, помимо высокой эффективности, продемонстрировал свое разнонаправленное влияние на динамику уровней К и ДГЭА-С. У больных с БАР уровни К повышались на фоне снижения показателей ДГЭА-С, что может быть связано с остаточной депрессивной симптоматикой и преобладанием катаболических процессов. У больных с РДР терапия венлафаксином не оказывала значительного влияния на уровень К, но приводила к снижению уровня анаболического гормона ДГЭА-С у части больных. Вместе с тем, отмечалось снижение показателей соотношения К/ДГЭА-С, что может свидетельствовать о тенденции нормализации баланса ГГА-оси и начале становления ремиссии. Интерпретация полученных данных у больных с ТДР крайне затруднительна в связи с имеющейся диагностической неопределенностью ТДР, с одной стороны, и разнонаправленностью и неустойчивостью колебаний уровней К и ДГЭА-С – с другой.
Ключевые слова: кортизол, дегидроэпиандростерона-сульфат, расстройства аффективного спектра, венлафаксин, анаболический и катаболический баланс.
Для цитирования: Горобец Л.Н., Буланов В.С., Литвинов А.В. Динамика уровней кортизола и дегидроэпиандростерона-сульфата у больных с расстройствами аффективного спектра в процессе терапии венлафаксином. Психиатрия и психофармакотерапия. 2021; 5: 14–21.
Введение. Несмотря на убедительные данные о нарушениях функционирования ГГА-оси у пациентов с депрессивным расстройством, результаты исследований о влиянии современных антидепрессантов на ее активность остаются до настоящего времени противоречивыми. Анализ научной литературы позволяет констатировать крайне малое количество публикаций последних лет по исследованию уровней кортизола (К) и дегидроэпиандростерона – сульфата (ДГЭА-С) у больных с аффективными расстройствами в процессе терапии АД, что делает актуальным проведение исследований в данном направлении.
Целью настоящего исследования являлось уточнение особенностей динамики уровней кортизола и дегидроэпиандростерона-сульфата у больных с аффективными расстройствами в процессе терапии венлафаксином.
Материалы и методы. В исследование были включены 72 больных: 24 мужчины и 48 женщин в возрасте от 20 до 53 лет (средний возраст 43,8±14,2 лет) с расстройствами аффективного спектра (F31.3; F33.1;F41.2), Терапия проводилась препаратом венлафаксин (Венлаксор, Гриндекс) в дозе 75–150 мг/сут в качестве монотерапии. Средняя суточная дозировка – 141,16±52,3 мг/сут. Кортизол и дегидроэпиандростерона-сульфат определяли до начала терапии, через 14 дней и через 28 дней терапии.
Результаты и обсуждение. Терапия венлафаксином (Венлаксор) в течение 4 недель была эффективной по оценке респонса (снижение более 50% по шкале HDRS) у всех исследованных больных. Особенностью динамики К у пациентов с БАР в процессе терапии венлафаксином является значимое повышение средних его показателей к 14 дню (р=0,039) и к окончанию исследования (р=0,029), которое сопровождается тенденцией к снижению средних уровней ДГЭА-С. К 14 и к 28 дням терапии отмечены значимые повышения показателя соотношения К/ДГЭА-С. У пациентов с РДР отмечались лишь тенденции к повышению средних показателей К и ДГЭА-С в процессе терапии, все средние значения гормонов находились в нормативных диапазонах и отмечалось снижение показателей соотношения К/ДГЭА-С. У пациентов с ТДР отмечалось незначительное повышение средних значений К в середине лечения с последующим его значимым (р=0,049) снижением к концу терапии.
Выводы. В исследовании показано, что венлафаксин, помимо высокой эффективности, продемонстрировал свое разнонаправленное влияние на динамику уровней К и ДГЭА-С. У больных с БАР уровни К повышались на фоне снижения показателей ДГЭА-С, что может быть связано с остаточной депрессивной симптоматикой и преобладанием катаболических процессов. У больных с РДР терапия венлафаксином не оказывала значительного влияния на уровень К, но приводила к снижению уровня анаболического гормона ДГЭА-С у части больных. Вместе с тем, отмечалось снижение показателей соотношения К/ДГЭА-С, что может свидетельствовать о тенденции нормализации баланса ГГА-оси и начале становления ремиссии. Интерпретация полученных данных у больных с ТДР крайне затруднительна в связи с имеющейся диагностической неопределенностью ТДР, с одной стороны, и разнонаправленностью и неустойчивостью колебаний уровней К и ДГЭА-С – с другой.
Ключевые слова: кортизол, дегидроэпиандростерона-сульфат, расстройства аффективного спектра, венлафаксин, анаболический и катаболический баланс.
Для цитирования: Горобец Л.Н., Буланов В.С., Литвинов А.В. Динамика уровней кортизола и дегидроэпиандростерона-сульфата у больных с расстройствами аффективного спектра в процессе терапии венлафаксином. Психиатрия и психофармакотерапия. 2021; 5: 14–21.
Dynamics of cortisol and dehydroepiandrosterone- sulfate levels in patients
with affective spectrum disorders during venlafaxine therapy
L.N. Gorobets, V.S. Bulanov, A.V. Litvinov
Abstract
Introduction. Despite the convincing data on dysfunction of the HPA axis in patients with depressive disorder, the results of studies on the effect of modern antidepressants on its activity remain ambiguous. An analysis of the scientific literature allows us to state an extremely small number of publications in recent years on the study of the levels of cortisol and DHEA-S in patients with affective disorders during therapy with blood pressure, which makes it relevant to conduct research in this direction.
The aim of this study was to clarify the dynamics of cortisol (C) and dehydroepiandrosterone- sulfate (DHEA-S) levels in patients with affective disorders during venlafaxine (Venlaksor) therapy.
Materials and methods. The study included 72 patients: 24 men and 48 women aged 20 to 55 years (mean age 43.8±14.2 years) with affective spectrum disorders (F31.3; F33.1; F41.2). Therapy was carried out with the drug venlafaxine (Venlaksor, Grindex) at a dose of 75-150 mg/day as monotherapy. The average daily dosage is 141.16±52.3 mg/day. Cortisol and dehydroepiandrosterone – sulfate were measured before starting therapy, after 14 days, and after 28 days of therapy.
Results and discussion. Venlafaxine (Venlaksor) therapy for 4 weeks was effective in assessing responsiveness (more than 50% reduction on the HDRS scale) in all patients studied. A specific feature of the dynamics of cortisol in patients with bipolar disorder during therapy with venlafaxine is a significant increase in its average values by 14 days (p=0.039) and by the end of the study (p=0.029), which is accompanied by a tendency towards a decrease in the average levels of DHEA-S. During 14 and 28 days the days of therapy, significant increases in the C/DHEA-S ratio were noted. In patients with RDD, there were only tendencies towards an increase in the mean values of cortisol and DHEA-S during therapy, all mean values of hormones were in the normative ranges, and there was a decrease in the values of the C/DHEA-S ratio. In patients with ADD, there was a slight increase in mean cortisol values in the middle of treatment, followed by a significant (p=0.049) decrease by the end of therapy.
Conclusions. The study showed that venlafaxine, in addition to its high efficacy, demonstrated its ambiguous effect on the dynamics of cortisol and DHEA-S levels. In patients with bipolar disorder, cortisol levels increased against the background of a decrease in DHEA-S values, which may be associated with residual depressive symptoms and the predominance of catabolic processes. In patients with RDD, venlafaxine therapy did not significantly affect the C level, but led to a decrease in the level of the anabolic hormone DHEA-S in some patients. At the same time, a decrease in the C/DHEA-S ratio was noted, which may indicate a tendency to normalize the balance of the HPA axis and the beginning of remission. Interpretation of the data obtained in patients with ADD is extremely difficult due to the existing diagnostic uncertainty of ADD, on the one hand, and the multidirectional and instability of fluctuations in the levels of C and DHEA-S, on the other.
Key words: cortisol, dehydroepiandrosterone – sulfate, affective spectrum disorders, venlafaxine, anabolic and catabolic balance.
For citation: Gorobets L.N., Bulanov V.S., Litvinov A.V. Dynamics of cortisol and dehydroepiandrosterone- sulfate levels in patients with affective spectrum disorders during venlafaxine therapy. Psychiatry and psychopharmacotherapy. 2021; 5: 14–21.
Актуальность
Одним из важнейших достижений нейрофизиологии за последние годы явилось осмысление роли стероидных гормонов при изучении нарушений различных звеньев гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси (ГГА-оси) у больных с расстройствами аффективного спектра. Значительное количество исследований посвящено этому вопросу при изучении депрессии как одного из самых распространенных психических заболеваний [1–6].
Интерпретация повышенной активности гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы при депрессивных расстройствах основывается на тесной взаимосвязи нейротрансмиттерных и гормональной систем. Повышение уровня кортизола приводит к росту активности МАО-А, из-за чего в головном мозге снижается уровень норадреналина и серотонина [7, 8], что подтверждается нейровизуализационными исследованиями МАО-активности и согласуется с моноаминовой гипотезой депрессии [9, 10].
Несмотря на прогресс исследований, касающихся биологии гормонов ГГА-оси, остается много неясных вопросов о механизмах их действия, нейробиологических свойствах, потенциальной вовлеченности в развитие аффективных и тревожных расстройств [11,12].
Известно, что адренокортикотропный гормон (АКТГ), кортизол (К), дегидроэпиандростерон (ДГЭА) и ДГЭА- сульфат (ДГЭА-С) играют важную роль в функционировании и развитии мозга. Тропные гормоны гипофиза управляют синтезом и высвобождением стероидных гормонов (главным образом глюкокортикоидов) из коры надпочечников. В свою очередь, глюкокортикоиды по механизму обратной связи способны угнетать синтез АКТГ в гипофизе, а также синтез кортиколиберина в гипоталамусе. Стероидные соединения могут влиять на нейрональную активность, а изменения в чувствительной к глюкокортикоидам системе мозга могут лежать в основе изменений состояния ГГА-оси, связанных со стрессом, депрессивными расстройствами и шизофренией [14–18].
Исследования показывают, что более 80% пациентов с депрессией имеют те или иные нарушения, связанные с ГГА-осью, которые являются наиболее устойчивыми эндокринными нарушениями. Состояние ГГА-оси при депрессии характеризуется следующими проявлениями: гиперкортизолемия [19, 20]; гипокортизолемия или нормокортизолемия [21, 22]; отсутствие реакции на дексаметазоновый тест [23, 24]; уменьшение функции глюкокортикоидных рецептов [25, 26]; увеличение объема надпочечников [27]; снижение уровней ДГЭА и ДГЭА-С [28, 29]. Кроме того, в ряде исследований показано, что при депрессивных расстройствах наблюдается повышенная патологическая активность ГГА-оси, однако причины подобной активности пока недостаточно ясны [21, 30, 31].
В большинстве случаев, у больных с депрессией обнаруживается гиперкортизолемия на фоне снижения уровня ДГЭА-С. В связи с этим, представляют интерес исследования, касающиеся вопросов соотношения уровней ДГЭА-С и К в концепции «анаболического баланса», согласно которой соотношение анаболических и катаболических гормонов может характеризовать расположенность к стрессу, старению и развитию психических заболеваний [32–35].
К настоящему времени установлено, что гиперсекреция К вызывает сдвиг метаболизма в сторону катаболических процессов, т.е. процессы распада и высвобождения энергии начинают преобладать над анаболическими процессами. Об этом также свидетельствует низкий уровень гормонов, обладающих анаболическим эффектом, в частности, ДГЭА и ДГЭА-С [34].
Считается, что высокий уровень К и низкий уровень ДГЭА является неблагоприятным прогностическим признаком терапевтической динамики [36]. Это может свидетельствовать об истощении анаболических возможностей организма по мере увеличения длительности заболевания [35].
Несмотря на убедительные данные о нарушениях функционирования ГГА-оси у пациентов с депрессивным расстройством, результаты исследований о влиянии современных антидепрессантов на ее активность остаются до настоящего времени противоречивыми [37, 38].
Вместе с тем, экспериментально установлено, что длительная терапия трициклическими антидепрессантами (ТЦА) и селективными ингибиторами обратного захвата норадреналина (СИОЗН) увеличивает количество глюкокортикоидных рецепторов (ГР) в гиппокампе крыс [39, 40]. Механизм изменения концентрации ГР под воздействием антидепрессантов остается неясным. Хорошо известно, что антидепрессанты влияют на норадренергическую и серотонинергическую синаптическую передачу.
В свою очередь указанные нейротрансмиттерные системы влияют на плотность ГР в гиппокампе. Так, серотонин и агонисты 5-HT рецепторов ее повышают. Кроме того, экспериментально установлено, что в результате дисбаланса серотониновой системы уменьшается способность к связыванию кортикостерона в гиппокампе крыс [41].
Антидепрессанты других групп – селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин и циталопрам и активатор обратного захвата серотонина (АОЗС) – тианептин (коаксил) не оказывают какого-либо эффекта на ГР. Вероятно, тианептин ингибирует ГГА-ось, при этом не увеличивает уровень ГР, а воздействует напрямую на процесс синтеза и секреции кортикотропин-рилизинг-гормона (КТГ). СИОЗС также влияют на ГГА-ось не путем регуляции рецепторов, через иные механизмы, например, увеличивая количество минералокортикоидных рецепторов (МР) или воздействуя на секрецию КТГ [42, 43]. Хотя в большинстве исследований оценка эффекта антидепрессантов производилась согласно их влиянию на ГР, нельзя исключать значимость МР, которые также регулируют уровень кортикостерона как в нормальных физиологических условиях, так и во время развития стрессовой реакции – по механизму обратной связи [44]. Отсутствие эффектов СИОЗС на число рецепторов глюкокортикоидов, доказывает, что действие антидепрессантов не связано лишь с их влиянием на концентрацию моноаминов и, по всей видимости, имеет более сложный механизм [43].
Долгосрочное назначение антидепрессантов приводит к снижению уровня АКТГ и кортикостерона в кровеносном русле, а также концентрации КТГ в гипоталамусе [42, 45]. Этот ингибирующий эффект на ГГА-ось продемонстрирован в экспериментальных исследованиях, проведенных на крысах, для большинства групп антидепрессантов – ТЦА, ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО), АОЗС и СИОЗС. Флуоксетин и циталопрам не изменяли уровень кортикостерона у крыс, но при этом во время применения флуоксетина у пациентов зарегистрировано снижение уровня КТГ и вазопрессина в цереброспинальной жидкости [46].
Недавно проведенный метаанализ публикаций, касающихся изменения уровня К в крови и слюне до и после назначения антидепрессантов, показал, что у 54% пациентов в процессе терапии антидепрессантами уровень гормона не меняется [47].
В ряде научных публикаций продемонстрированы данные о влиянии отдельных антидепрессантов на снижение активности ГГА-оси: миртазапина [48], циталопрама [49], амитриптилина [50], сертралина [51] и пароксетина [52].
В работе Golden R. et al (1990) приводятся данные о том, что кломипрамин, напротив, может способствовать повышению активности ГГА-оси [53]. Можно предположить, что влияние на деятельность ГГА-оси может рассматриваться как одна из составляющих тимоаналептического ответа, и должно учитываться при тестировании новых препаратов [3]. Кроме того, нельзя исключить, что различия препаратов по влиянию на уровни К и ДГЭА-С могут играть роль и в формировании резистентности, так как при определенных типах депрессивного расстройства может регистрироваться гипокортизолемия [22].
Существует устойчивое мнение, что нормализация показателей ГГА-оси зависит от результативности лечения. Так, клинические исследования демонстрируют гиперфункцию ГГА-оси у пациентов с депрессией и нормализацию функционирования после успешно проведенной терапии [54, 55]. Напротив, у пациентов с остаточной депрессивной симптоматикой после лечения уровень К оставался повышенным [56]. Важно обратить внимание, что наиболее стойкая нормализация уровня К регистрируется при достаточно длительных исследованиях у пациентов, достигших стойкой ремиссии [54, 55].
Таким образом, восстановление нормального функционирования системы ГГА-оси может являться одним из маркеров стойкой ремиссии, тогда как нестабильная гормональная дисфункция указывает на нестойкость достигнутого клинического улучшения и необходимость изменения терапевтической тактики [6]. Одним из показателей успешной терапии психических заболеваний и, в частности, депрессий, является снижение показателей соотношения К/ДГЭА-С (снижение уровня кортизола и повышение уровня ДГЭА-С) [35, 57].
Анализ научной литературы позволяет констатировать крайне малое количество публикаций последних лет по исследованию уровней К и ДГЭА-С у больных с аффективными расстройствами в процессе терапии АД, что делает актуальным проведение исследований в данном направлении.
Целью настоящего исследования являлось уточнение особенностей динамики уровней кортизола и дегидроэпиандростерона-сульфата у больных с аффективными расстройствами в процессе терапии венлафаксином.
Материалы и методы
В исследование были включены 72 больных: 24 мужчины и 48 женщин в возрасте от 20 до 53 лет (средний возраст 43,8±14,2 лет) с расстройствами аффективного спектра, проходившие стационарное и амбулаторное лечение в клиниках Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России в 2018–2020 г.г. Длительность заболевания составляла от 1 года до 12 лет.
В соответствии с критериями МКБ-10, у 24 больных (1 группа) было диагностировано биполярное аффективное расстройство (БАР) – F31.3; у 32 больных (2 группа) – рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени тяжести (РДР) – F33.1 и у 16 больных (3 группа) – смешанное тревожное и депрессивное расстройство (ТДР) – F41.2). Всем пациентам проводилась монотерапия препаратом венлафаксин (Венлаксор, Гриндекс) в дозе 75-150 мг/сут. Средняя суточная дозировка составляла 141,16±52,3 мг/сутки.
Пациенты включались в исследование согласно следующим критериям: соответствие пациентов критериям МКБ-10 диагнозов F31.3, F33.1, F41.2; возраст от 18 до 53 лет; баллы по шкале Гамильтона (HDRS) более 16 баллов. Критерии исключения: органические заболевания ЦНС; эндокринные заболевания; тяжелые формы соматических заболеваний. У всех пациентов было получено информированное согласие на участие в исследовании. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (протокол №24/3 от 2018 г.).
Исследование с использованием шкалы оценки депрессии Гамильтона HDRS-21 [58] и шкале оценки тревоги Гамильтона HARS [59] проводилось при поступлении и через 28 дней от начала терапии. Гормональные исследования проводились до начала терапии, через 14 дней и через 28 дней терапии. К респондерам относились пациенты, у которых отмечалась снижение суммарного балла по шкале оценки депрессии Гамильтона более чем на 50% к 28 дню терапии по сравнению с исходными значениями. Сравнительный анализ гормональных показателей проводился как между группами, так и внутри каждой группы.
Определение уровней гормонов К и ДГЭА-С проводилось натощак в утренние часы в сыворотке крови иммуноферментным методом на фотометре вертикального сканирования MultiscanAgent («Labsystems», Финляндия) с использованием реактивов фирмы «АлкорБио». Референсные значения гормонов:К – 150–660 нмоль/л; ДГЭА-С – 1,0–4,2 мгк/мл.
Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием компьютерной статистической программы «Statistiсa» версия 6.0 (StatsoftInc.,USA) с вычислением средних значений (М) и ошибки среднего (±SE). Для сравнения показателей применялись непараметрические методы статистической оценки: для сравнения двух зависимых переменных – критерий Вилкоксона и χ2, анализ межгрупповых различий проводился с помощью теста Манна-Уитни и χ2. Для исследования взаимосвязи между переменными использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена (r). Различия считались значимыми при р<0,01.
Результаты
Основные клинико-демографические показатели у исследованных больных приведены в табл.1.
Как видно из данных табл.1, группы были сопоставимы по возрасту и средним дозам антидепрессанта. Средние значения длительности заболевания были значимо (p=0,003) выше во второй группе. Также во 2-й и 3-й группах преобладали больные женского пола.
Результаты динамической оценки выраженности депрессии и тревоги у обследованных пациентов представлены на рис. 1 и на рис. 2.
Согласно полученным данным, фоновые средние баллы по шкалам HDRS и HARS составили в 1-й группе 25,5±5,8 и 9,1±3,3 баллов; во 2-й группе – 23,2±4,9 и 11,2±5,3 баллов, в 3-й группе – 19,4±2,7 и 28,1±10,3 баллов для каждой шкалы соответственно. Самый низкий показатель по шкале HDRS и самый высокий по шкале HARS отмечен в 3-й группе пациентов. Значимые межгрупповые различия составили: HDRS–1 и 3 группы (р=0,015); 2 и 3 группы (р=0,009); HARS–1 и 3 группы (р=0,019); 2 и 3 группы (р=0,007).
К 28 дню терапии отмечено значимое (р≤0,01) снижение средних показателей по шкалам HDRS и HARS во всех группах: в 1-й группе до 13,1±2,3и 4,0±1,9 баллов; во 2-й группе – до 11,5±2,7 и 3,4±0,9 баллов, в 3-й группе – до 7,4±1,2 и 6,7±1,7 баллов.
Значимых межгрупповыхразличий по показателям шкал к 28 дню терапии не выявлено.
Динамика средних значений уровня кортизола представлена на рис. 3.
Средние показатели К у больных с БАР превышали нормативные и повышались от этапа к этапу: фон – 665,74±234,51 нмоль/л; 14 день – 743,23±412,63 нмоль/л;
28 день –746,43±297,34 нмоль/л. Значимые различия выявлены между 1 и 2 (р=0,039) и 1-3 (р=0,029) этапами.
Во второй группе отмечалась аналогичная динамика, но изменения были незначительными и все средние значения гормона
не превышали референсные пределы (599,54± 198,40 нмоль/л; 618,68±224,63 нмоль/л; 621,85±305,12 нмоль/л; соответственно этапам исследования). У больных с ТДР, как и во 2 группе, средние значения К на всем протяжении исследования находились в нормативном диапазоне, но динамика была разнонаправленной – незначительное повышение к 14 дню и значимое (р=0,049) снижение к 3 этапу (636,21±333,50 нмоль/л; 644,25±297,12 нмоль/л; 506,25±312,70 нмоль/л, соответственно этапам). Выявлены значимые различия уровня гормона у пациентов 1 и 3 групп к концу исследования (р=0,019).
Результаты анализа частоты встречаемости пациентов с уровнем К, превышающим верхние нормативные значения, представлен на рис. 4. У пациентов с БАР повышенный фоновый уровень К выявлен в 41,66% случаев (1032,84±284,22 нмоль/л), через 14 дней – в 58,33% (1018,14±321,1 нмоль/л.) и в 66,66% (746,46±212,32 нмоль/л) к концу исследования. Значимые различия между 1 и 3 этапами (р=0,018). У пациентов РДР повышенный фоновый уровень К выявлен у 25% пациентов (956,75±164,12 нмоль/л), через 14 дней – у 31,25% (956,64±180,12 нмоль/л) и у 31,25% пациентов (906,21±198,30 нмоль/л) к концу исследования. В 3 группе: фон – у 37,5% (1002,23±196,13 нмоль/л); 14 день – 37,5% (1132,33±344,80 нмоль/л); 28 день – 25% (1167,50±268,30 нмоль/л). Значимые (р=0,012) различия в частоте встречаемости пациентов с повышенным уровнем К выявлены на третьем этапе терапии между 1 и 2 (р=0,012) и между 1 и 3 (р=0,015) группами.
Как видно из данных рис. 5, средние показатели уровня ДГЭА-С у пациентов в группах находились в нормативном диапазоне на всех этапах исследования. У больных с БАР отмечались незначительные колебания уровня гормона с тенденцией к снижению к 28 дню терапии (фон – 2,10±1,87 мгк/мл; 14 день – 2,14±1,21 мгк/мл; 28 день – 1,56±0,95 мгк/мл); у пациентов с РДР – незначительное его повышение от этапа к этапу (1,77±1,20 мгк/мл; 14 день – 2,00±1,34 мгк/мл; 28 день – 2,13±1.80 мгк/мл). У больных с ТДР отмечена разнонаправленность динамики – значимое (р=0,045) повышение к 14 дню терапии и значимое (р=0,031) снижение к концу исследования (фон – 2,12±1,44 мгк/мл; 14 день –3,37±1,84 мгк/мл; 28 день – 2,05±1,12 мгк/мл). На 14 день исследования выявлены значимые различия в показателях гормона между 1 и 2 (р=0,049) и 1 и 3 (р=0,035) группами. Более детальный анализ позволил выявить повышенные фоновые значения гормона у 16,66% пациентов 1 группы (4,95±1,22 мкг/мл); у 6,25% (4,80±0,21 мкг/мл.) 2 группы и у 12,5% (7,1±1,08 мкг/мл) 3 группы. У 8,3% пациентов 1 группы (0,51±0,25 мкг/мл) и у 12,5% пациентов 3 группы (0,3±0,45 мкг/мл.) выявлены показатели ниже референсных значений. Через 14 дней терапии повышенный уровень гормона в 1 группе выявлен в 25% случаев (4,90±1,04 мкг/мл); во 2группе в 12,5% случаев (5,60±1,11 мкг/мл) и в 3 группе – в 12,5% (7,83±0,19 мкг/мл). При этом возросло число пациентов с низкими значениями гормона в 1 группе – 16,66% (0,57±0,22 мкг/мл) и во 2 группе – 12,5% (0,44±0,16 мкг/мл). В 3 группе число пациентов с пониженным уровнем ДГЭА-С оставалось без изменений – 12,5% (0,57±0,22 мкг/мл). К концу исследования не обнаружено пациентов с повышенным уровнем гормона. В 1 группе он оставался сниженным у 8,3% (0,72±0,16 мкг/мл.), во 2 группе – у 25% (0,55±0,11 мкг/мл) и в 3 группе – у 12,5% (0,61±0,18 мкг/мл) пациентов.
Анализ динамики показателей соотношения К/ДГЭА-С у пациентов с БАР обнаружил их значимое (р=0,025; р=0,009–2 и 3 этапы) повышение в процессе терапии: фон –317±85; 2 этап –353±79; 3 этап –466± 56. У пациентов
2 группы динамика показателей соотношения К/ДГЭА-С имела тенденцию к снижению: фон –333±55; 2 этап – 309± 47; 3 этап –295 ± 36. У больных с ТДР динамика соотношения К/ДГЭА-С была иной. В отличии от 1 и 2 групп на
2 этапе исследования показатели значимо(р=0,017) снижались, а затем значимо (р=0,013) повышались к окончанию терапии (фон – 302±52; 2 этап – 189±41; 3 этап – 253±34). Кроме того, необходимо отметить, что на 14 и 28 дни терапии соотношение К/ДГЭА–С у больных 1 группы были значимо (р=0,015; р=0,007–2 и 3
этапы, соответственно) выше по сравнению со 2 и 3 группами (рис.6).
Обсуждение
По результатам проведенного исследования, монотерапия венлафаксином (Венлаксор) в течение 4 недель была эффективной по оценке респонса (снижение более 50% по шкале HDRS) у всех обследованных пациентов с расстройствами аффективного спектра, что согласуется с данными ряда научных публикаций [60, 61].
Учитывая длительность терапии 28 дней, оценка эффективности по достижению ремиссии в представленном исследовании не проводилась.
Полученные результаты исследования уровней К у обследованных пациентов позволяют констатировать, что особенностью динамики гормона у пациентов с БАР в процессе терапии венлафаксином является значимое повышение средних его показателей к 14 дню (р=0,039) и к окончанию исследования (р=0,029), причем все показатели превышали верхнюю границу референсных значений. Кроме того, отмечено значимое (р=0,018) повышение количества пациентов с высокими уровнями К 28 дню терапии. Эти процессы сопровождались тенденцией к снижению средних уровней ДГЭА-С и колебаниями числа пациентов с высокими и низкими показателями гормона и наличием пациентов с низкими значениями ДГЭА-С к концу терапии. В результате, как к 14, так и к 28 дню терапии отмечены значимые повышения показателя соотношения К/ДГЭА-С. Полученные результаты, с одной стороны, можно интерпретировать как преобладание катаболических процессов над анаболическими [32,33], а с другой – наличием остаточной депрессивной симптоматики, требующей продолжения антидепрессивной терапии у больных с БАР [6]. Полученные нами данные в целом совпадают с рядом краткосрочных исследований ГГА-оси у больных с депрессивными расстройствами в процессе терапии, в которых указывается, что следует ожидать нормализации показателей гормонов при формировании ремиссии, т.е. при более длительной терапии [54,55,62].
У пациентов с РДР отмечались лишь тенденции к повышению средних показателей К и ДГЭА-С в процессе терапии, и все значения гормонов находились в нормативных диапазонах. Число пациентов с повышенными значениями К колебалось незначительно (25–31%), в то время как к концу терапии число пациентов с показателями ДГЭА-С ниже референсных значений увеличилось и составляло 25%. Можно говорить о том, что терапия венлафаксином (Венлаксор) не оказывала значительного влияния на уровень К, но приводила к снижению уровня анаболического гормона ДГЭА-С у части больных. Вместе с тем, в результате терапии венлафаксином отмечалось снижение показателей соотношения К/ДГЭА-С, что может свидетельствовать о тенденции нормализации баланса ГГА-оси и начале становления ремиссии. Мы предполагаем, что у больных с РДР эти процессы происходят за счет нормализации концентрации серотонина и норадреналина в синаптической щели в процессе терапии препаратом, селективно ингибирующем обратный захват этих моноаминов, что согласуется с данными ряда научных работ [8,10].
У пациентов с ТДР отмечены следующие особенности динамики показателей К: отмечалось незначительное повышение средних значений в середине лечения с последующим его значимым (р=0,049) снижением к концу терапии. Как и у пациентов 2 группы, средние значения не превышали референсные границы.
Средние значения уровней ДГЭА-С у пациентов с ТДР к 14 дню значимо(р=0,045) повышались, а затем значимо (р=0,031) снижались до исходного уровня. Число больных с повышенным или пониженным уровнем гормона было незначительным и не влияло на средние показатели в группе. Выявленные изменения средних значений К и ДГЭА-С нашли свое отражение в динамике соотношений К/ДГЭА-С: понижение показателей к 14 и повышение к 28 дню терапии у пациентов с ТДР. Интерпретация полученных данных у больных с ТДР крайне затруднительна в связи с имеющейся диагностической неопределенностью ТДР с одной стороны и разнонаправленностью и неустойчивостью колебаний уровней К и ДГЭА-С – с другой [62].
К ограничениям настоящего исследования относятся небольшая выборка пациентов с ТДР и ограниченность временных рамок исследования (28 дней). Необходимо также отметить, что данное исследование касалось изучения уровней только 2 гормонов ГГА-оси, что, безусловно, ограничивает целостное представление о функционировании системы гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников у больных с аффективными расстройствами. Несмотря на указанные ограничения, результаты проведенного исследования, а также противоречивость данных научной литературы свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований в направлении уточнения роли гормонов ГГА-оси как биологических маркеров, которые могут быть использованы для предикции ответа на антидепрессивную терапию у больных с аффективными расстройствами.
Вместе с тем, полученные результаты дают основание для проведения дальнейших исследований с целью уточнения влияния терапии различными классами антидепрессантов на состояние ГГА-оси.
Заключение
Несмотря на убедительные данные о нарушениях функционирования ГГА-оси у пациентов с депрессивными и тревожными расстройствами, результаты исследований о влиянии антидепрессантов на активность указанной эндокринной системы противоречивы. По всей вероятности, это связано с тем, что по современным представлениям она является наиболее устойчивой у данной категории больных.
В большинстве научных исследований успешность терапии АД связывают с нормализацией уровня К [54, 55] , повышением уровня ДГЭА-С и снижением показателей соотношения К/ДГЭА-С [63]. Вместе с тем имеются данные о том, что у 54% пациентов уровень К в процессе терапии не меняется независимо от ее результатов [47].
Данные нашего исследования терапии венлафаксином (Венлаксор) позволяют констатировать, что повышение уровня К у пациентов с БАР, также как и при терапии кломипрамином [53], не препятствовало успешности терапии, как и незначительное снижение показателей ДГЭА-С и повышение соотношения К/ДГЭА-С. В то же время у пациентов-респондеров с РДР и ТДР было отмечено снижение уровней К на фоне разнонаплавленных колебаний ДГЭА-С и соотношений К/ДГЭА-С, что сопоставимо с данными литературы при применении ряда ТЦА и СИОЗС [22]. Данных по влиянию СИОЗСН на уровни гормонов ГГА-оси в научной литературе обнаружить не удалось.
Как указывалось выше, получение целостного представления о состоянии ГГА-оси у больных с аффективными расстройствами в процессе антидепрессивной терапии требует проведения дальнейших более продолжительных исследований на более репрезентативных выборках с определением как центральных (КТГ и АКТГ), так и периферических гормонов ГГА-оси.
СВЕДЕНИЯ об АВТОРЕ:
Горобец Людмила Николаевна – д-р мед. наук, проф., рук. отд. психиатрической эндокринологии МНИИП – филиала ФГБУ .НМИЦ ПН
им.В.П. Сербского.. E-mail: gorobetsln@mail.ru